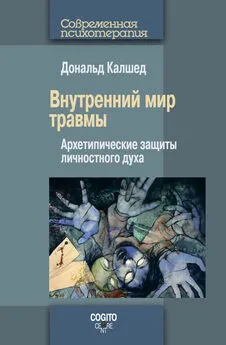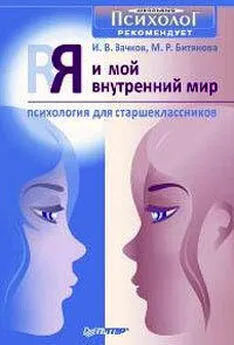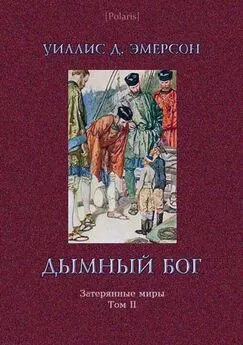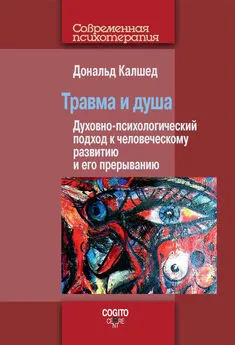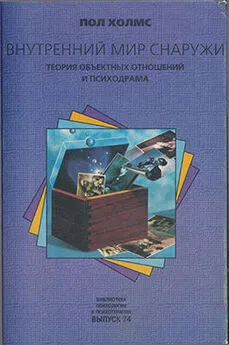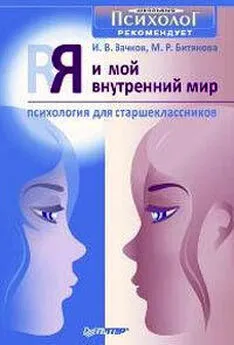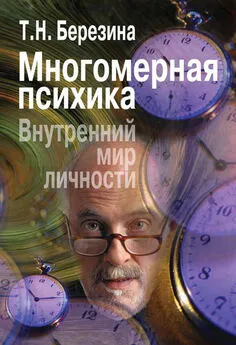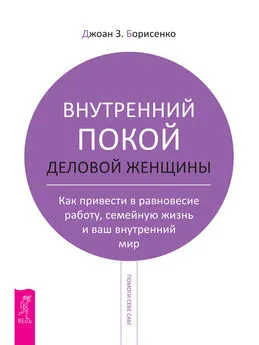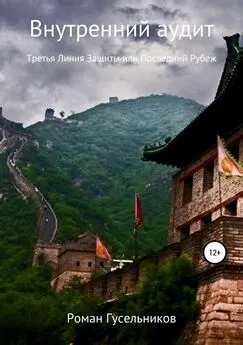Дональд Калшед - Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа
- Название:Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-0-415-12329-7, 978-5-89353-440-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дональд Калшед - Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа краткое содержание
В книге «Внутренний мир травмы» Дональд Калшед исследует мир сновидений и фантазий, который раскрывается в терапии людей, тяжело пострадавших в результате трагических событий их жизни. Он показывает, как защитные меры психики, призванные оберегать «неуничтожимый дух» человеческой личности, при некоторых обстоятельствах принимают обличье ужасных фигур, преследующих Эго в сновидениях и грезах. В книге приводится богатый клинический материал для иллюстрации действия комплекса ранних защит, или системы самосохранения. Предпринята попытка синтеза психоаналитических концепций психической травмы и ранних защит, созданных современными представителями теории объектных отношений, с классическим юнгианским подходом, основанным на идеях архетипического мира коллективного бессознательного и процесса индивидуации.
Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Winnicott, D. W. (1969) The Use of an Object and Relating Through Identifications, in C. Winnicott, R. Shepherd, M. Davis (eds). Psychoanalytic Explorations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989: 218–227.
Winnicott, D. W. (1970) On the Basis for Self in Body, in C. Winnicott, R. Shepherd, M. Davis (eds). Psychoanalytic Explorations. Cambridge. Mass.: Harvard University Press. 1989: 261–283.
Winnicott, D. W. (197la) Dreaming, Fantasying and Living, in D. W. Winnicott Playing and Reality. New York: Basic Books:
26–37.
Winnicott, D. W. (1971b) The Location of Cultural Experience, in D. W. Winnicott Playing and Realit y. New York: Basic Books: 95–103. Woodman, M. (1982) Addiction to Perfection: The Still Unravished Bride.
Toronto: Inner City Books.
Woodman, M. (1985) The Pregnant Virgin: A Process of Psychological Transformation. Toronto: Inner City Books.
Примечания
1
Все постраничные примечания принадлежат научному редактору, концевые – авторские.
Здесь и далее в тексте я соответствует английскому self – понятию, принятому в психоаналитической теории, например, в эго-психологии и психологии самости. Часто «self» переводится на русский язык как «самость». Для того чтобы избежать путаницы с «Самостью», понятием, принятым в аналитической психологии для обозначения центрального архетипа коллективного бессознательного, мы переводим психоаналитическое понятие self как я . Там же, где автор вводит специальные термины психологии самости Кохута, например, self-object, мы используем предложенный А. М. Боковиковым в его переводах фундаментальных трудов Кохута вариант – «объект самости».
2
В английском тексте «diabolization», что можно было бы перевести и как «демонизация».
3
К сожалению, при редакторской правке текста русского перевода книги Калшеда в первом издании (второе издание полностью повторило предыдущее без каких-либо изменений) было принято решение перевести слово «daimon, δαίμων» как «демон», что вносит существенные смысловые искажения в текст перевода.
В иудео-христианской традиции демоны – падшие ангелы, которых увлек в своем падении самый могущественный ангел – Люцифер. Демоны населяют ад и воздушную сферу, служат верховному дьяволу, исполняя его злую волю, помогая ему в его непрестанной борьбе с Богом, всегда действуя во вред человеческому роду.
Даймоны в древнегреческой мифологии в отличие от демонов иудео-христианской традиции являются духами, сверхъестественными существами (злобными или добрыми), обитающими в «переходной» срединной области между обителью бессмертных богов – небом – и землей, населенной смертными существами. Происхождение даймонов различно: это и души умерших героев, и отпрыски «низших» богов, и люди Золотого Века. См. диалог Пир Платона, в котором излагается легенда о посмертной участи людей Золотого Века, а также сказание об одном из даймонов – Эроте. Предназначение даймонов состоит в том, чтобы истолковывать и рассказывать о происходящем среди людей богам, а также доносить волю богов до людей. Даймоны также выступали руководителями и советчиками великих людей. В эпоху эллинизма был распространен культ гениев правителей, например, гения Александра Великого. В поздней римской традиции упоминается гений императора Августа. Сократа всю его жизнь сопровождала некая даймоническая фигура: «С раннего детства мне сопутствует некий гений – это голос, который, когда он мне слышится, всегда, чтобы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему меня не побуждает» (Платон. Федр // ПСС. Т. 1. М.: Мысль, 1990, с. 122–123). В эллинистической традиции даймоны разделялись на добрых (эудаймоны или калодаймоны) и злых (какодаймоны).
Таким образом, определение «демонический» вряд ли может быть удачным выбором для характеристики всей системы защиты я, которая представляет собой один из аспектов диадической системы, сформированной в результате расщепления, которое Эго претерпевает при переживании травмы. Именно поэтому автор отнюдь не по небрежности или по ошибке повсюду использует слово « daimon, daimonic» – даймон, даймонический для описания прогрессировавшей части разделенного Эго. Эпитет «демонический» встречается при описании злобного, преследующего аспекта прогрессировавшей части Эго. Для нас очевидно, что метафора «даймонического» как нельзя лучше передает и идею архетипической двойственности защит второго эшелона, и представление о посреднической функции прогрессировавшей части Эго между регрессировавшей частью и внешней реальностью. То, что Калшед придерживается именно этой точки зрения, он сам подтвердил в переписке с научным редактором.
Там, где в авторском тексте присутствует противопоставление «даймоническое – ангельское», мы переводим «daimonic» как «демонический».
4
Здесь мы сохраняем перевод центрального понятия концепции Д. Калшеда «psyche’s self-care system», который был принят в первом издании «Внутреннего мира травмы». Возможно, более удачный вариант перевода – «система защит я» или «система защит самости». Однако далее мы будем придерживаться первого варианта для того, чтобы не создавать трудностей разночтения в отношении базовой концепции автора.
5
В английском тексте self-defeating «re-enactment». «Self-defeating» ( англ .) иногда переводят как «мазохистический», например, в словосочетании «self-defeating personality disorder» – «мазохистическое расстройство личности», иногда – как «самосаботаж». В англоязычной специальной литературе термин «self-defeating» описывает поведение и внутренние тенденции, которые направлены на причинение ущерба себе в самом широком смысле и не сводятся к актам мазохизма, связанным с получением удовольствия от физического (само) повреждения. Так, «self-defeating» персона в благоприятной для себя ситуации испытывает напряжение и, как правило, незаметно для себя предпринимает некоторые действия, в результате которых благоприятная ситуация превращается в свою противоположность. Выгода оборачивается ущербом, реальные возможности успеха упускаются и т. п., при этом индивид, которому присуща тенденция к самоповреждению, испытывает облегчение.
6
В DSM-IV (1994) и DSM-V (2013) расстройство множественной личности (DSM-III (1980), DSM-III-R (1988)) фигурирует под названием «расстройство дислоцированной идентичности» (Dissociative Identity Disorder). В МКБ-10 сохранилось прежнее название – «расстройство множественной личности».
7
При подготовке DSM-V (2013) критерии ПТСР (PTSD) были существенно пересмотрены. Введен диссоциативный подтип ПТСР, в клинической картине которого присутствуют диссоциативные симптомы деперсонализации и дереализации.
8
Coincidenta oppositora ( лат .) – совпадение противоположностей.
9
Mysterium tremendum ( лат .) – ужасная тайна.
10
Разъясняя свою концепцию «кумулятивной травмы», Масуд Кан отмечает то, что такого рода травма состоит из микроскопических событий, которые качественно отличаются от переживания «больших» психотравмирующих ситуаций катастрофического характера. События, которые вносят «накопительный» вклад в кумулятивную травму в общем представляют собой «микроситуации» обыденной жизни, в которых мать не справляется функцией стимульного барьера. Эти ситуации, как правило, незаметны постороннему наблюдателю в отличие от «обычных» потенциально травмирующих событий, чреватых угрозой жизни, серьезным ущербом здоровью, таких, как физическое и сексуальное насилие, природные и техногенные катастрофы, участие в боевых действиях и т. д. Ситуации кумулятивной травмы вызывают у ребенка состояние фрустрации, напряжение в формирующемся Эго. Часто повторяющиеся промахи матери в регуляции взаимодействия ребенка с окружающей средой и собственными импульсами приводят в итоге к тому, что развитие Эго ребенка претерпевает деформацию – слишком ускоренное развитие одних функций Эго и торможение развития других. Кумулятивная травма, по Масуду Кану, «взрывается» в пубертате атакой на все, связанное с материнской фигурой, что находит внешнее выражение в делинквентном поведении, в том числе в злоупотреблении психоактивными веществами, промискуитете и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: