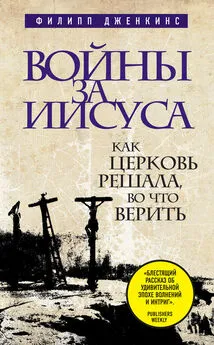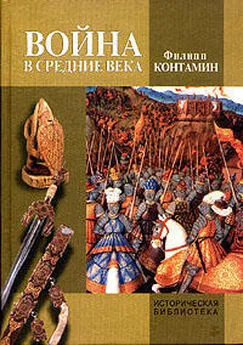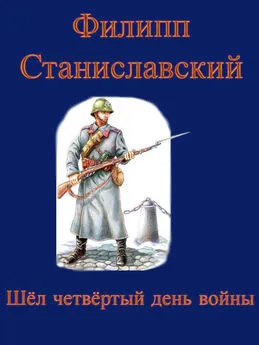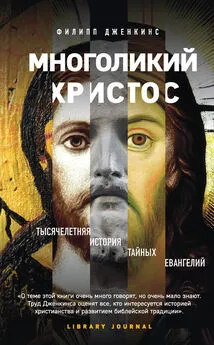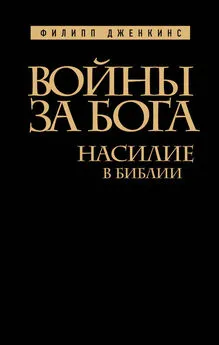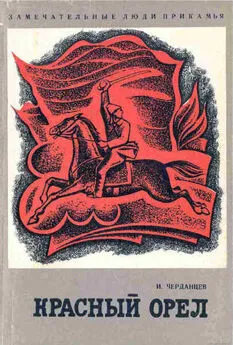Филипп Дженкинс - Войны за Иисуса: Как церковь решала, во что верить
- Название:Войны за Иисуса: Как церковь решала, во что верить
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «5 редакция»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-54919-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филипп Дженкинс - Войны за Иисуса: Как церковь решала, во что верить краткое содержание
Войны за Иисуса: Как церковь решала, во что верить - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В то же время признание того, что эти внешние силы оказывают влияние на веру, не равносильно цинизму, примитивному утверждению о том, что «веру создает власть». Многие могущественные властители изо всех сил пытались навязать свои мнения церквам – и у них ничего не получалось. Внешние люди – даже такие сильные, как Константин, – никогда не могли подчинить церковь своим представлениям, если их пожелания не соответствовали желаниям весомых группировок в христианском сообществе. Несмотря на все политические интриги церкви в V веке решали вероучительные вопросы с помощью споров и компромиссов между членами церквей, духовенством и мирянами. Одни христиане сражались с другими христианами, пока не находили того, что им представлялось истиной.
Кроме того, в христианской традиции – как и в традициях иных религий – нет веры в слепую случайность. Писания иудеев и христиан пронизаны представлением о провидении, о том, что Бог вмешивается в историю, иногда используя для этого самых неподходящих деятелей. Халкидон является ярким подтверждением этой идеи для тех, кто в нее верит, хотя бы потому, что такой итог тех религиозных споров не казался вероятным. В ту эпоху казалось, что силы, которые стремятся сделать образ Христа чисто божественным, побеждают, хотя бы потому, что для тогдашних людей, только что оставивших язычество, представление о боге-человеке было куда понятнее. Об этом свидетельствуют практика благочестия и иконография, прославляющие Христа как божественного Вседержителя и его Мать как богиню. К тому же веру в одну природу поддерживали древнейшие и величайшие христианские центры, давшие миру самых ярких богословов. Полвека спустя после Халкидона, когда центр тяжести империи все больше смещался к Востоку, только безрассудный пророк мог думать, что у Халкидона есть хоть какой-то шанс на будущее. Но, несмотря на все препятствия, о Халкидоне снова вспомнили и его определения одержали победу после многих десятилетий, когда казалось, что они обречены на забвение.
Каким-то удивительным образом церковь сохранила веру в то, что Христос был не только Богом, но и человеком. И сегодня это представление стало нормой для великого большинства христиан – всех католиков и православных, а также практически всех протестантов.
Вечно возобновляющийся спор
Несмотря на эту победу, бои Эфеса и Халкидона продолжают бушевать даже между такими людьми, которые ничего не знают об этих соборах. Такова особенность истории христианства: в ней снова на поверхность всплывают идеи и представления, которые, казалось бы, давно умерли или были признаны ложными. Иногда они хранятся в подполье тайных традиций или их заново открывают ученые, изучающие древние тексты, как это случилось с гностицизмом, который сегодня снова стал популярен на Западе. Или, быть может, те же самые импульсы, которые породили эти представления в древности, те же самые подходы к Писанию сохраняются в нынешних христианских общинах. Хотя Римская империя много столетий назад, казалось бы, окончательно разгромила ариан, подобные идеи вдруг появились на Западе в виде унитарианства. В любом обществе, в котором христиане читают старинные богословские тексты и изучают историю, хотя бы поверхностно, неизбежно обнаруживают, что в нем живы древние представления о Христе и его миссии. История христианской веры – это история, в которой вечно воскресают древние споры.
Бои Эфеса и Халкидона продолжают бушевать даже между такими людьми, которые ничегоне знают об этих соборах. Такова особенность истории христианства: в ней снова на поверхность всплывают идеии представления, которые, казалось бы,давно умерли или были признаны ложными
Таким образом, идеи и представления по какой-то причине не исчезают бесследно, и это в полной мере относится к спорам, звучавшим в V веке. Даже когда мы не можем найти понятных взаимосвязей между древними и современными мыслями, те же идеи неожиданно всплывают на поверхность снова и снова. В этом можно убедиться на примере стихотворения поэта XVII века Джона Донна, которое считается величайшим религиозным произведением из всех, написанных на английском. В этом произведении, носящем название «Страстная пятница 1613 года», Донн повествует, что в путешествии он смотрит на заходящее солнце и видит в нем распятого Христа. Любой человек, знакомый с древними христологическими спорами, должен удивиться тому, насколько мысли и язык Донна напоминают монофизитство. За вычетом некоторых доктринальных представлений это такие слова, которые должны были бы понравиться Диоскору Александрийскому и Севиру Антиохийскому. Если бы они знали это стихотворение, они могли бы потребовать, чтобы члены церкви выразили ему свое одобрение, прежде чем их допустят к причастию.
Христос на крест взошел – и снят с креста,
Чтоб свет навек не скрыла темнота…
Я не был там, и я почти что рад:
Подобных мук не вынес бы мой взгляд.
Но зрящим божью смерть – каков исход?!
Кто даже жизнь – лик божий – зрит, – умрет…
Мир потрясен, и меркнет солнце божье,
Земля дрожит, земля – Его подножье!
Возможно ль вынести? Немеют в муке
Ход всех планет направившие руки!
Кто всех превыше, кто всегда – зенит
(Смотрю ли я, иль антипод глядит),
Тот втоптан в прах! И кровь, что пролилась
Во искупленье наше, льется в грязь!
Святое тело – божье облаченье —
Изранено, разодрано в мученье! [445]
Никто не может посмотреть Богу в лицо и остаться в живых, говорит Донн, так что, если бы я оказался очевидцем распятия, какая бы ужасная участь меня ждала, – если бы я увидел смерть Бога, создавшего небеса, который все еще направляет ход всех планет? Бог умер. Что было бы со мной, если бы я узрел его терзаемую человеческую плоть, которую он носил, как одежду, как его «облаченье» на этой земле? Это стоит очень близко к монофизитской версии Трисвятой песни: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, распятый за нас, помилуй нас!» Бог Слово умер!
Никто не обвинял Джона Донна в глубоком отпадении от ортодоксии или в том, что он ставил под сомнение доктрины Халкидона, с которыми он должен был согласиться как верный священнослужитель Церкви Англии. В тогдашнем Лондоне не было подпольных монофизитов и не действовали тайные коптские агенты. Донн совершенно самостоятельно, опираясь на логику распространенного благочестия, увидел страдания Христа так, что его образы могли бы согреть сердце Евтихия – если этого сурового человека вообще что-либо могло радовать.
Пятое столетие осталось древней историей, но новые мыслители следовали подобными путями и порой приходили к радикальным версиям учения об одной или двух природах. На протяжении Средневековья и далее забытые ереси адопционизма и докетизма продолжали пользоваться популярностью в Европе и на Ближнем Востоке. Порой дуалисты создавали альтернативные церкви с независимой иерархией. Многие обычные христиане понимали – хотя иногда они рисковали жизнью, – что не могут согласиться с учением церкви о человеческой природе Христа, поскольку эта природа настолько очевидно зла и осквернена. И Мария, конечно, не могла родить Бога. Христос обладает одной чисто божественной природой, а его человеческий облик – это просто обманчивая видимость. Или по крайней мере сила Христа вошла в человека Иисуса и оставила его, когда он исполнил то, ради чего пришел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: