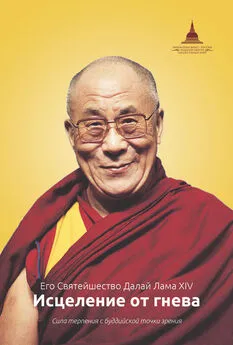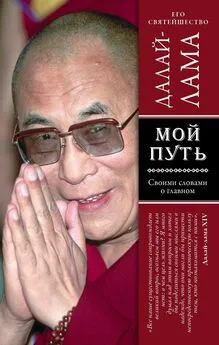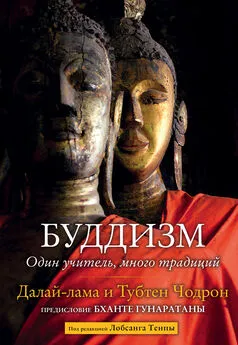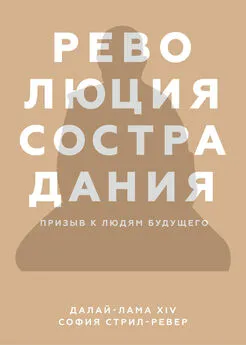Далай-лама XIV - Исцеление от гнева
- Название:Исцеление от гнева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Далай-лама XIV - Исцеление от гнева краткое содержание
Исцеление от гнева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
« Пока существует пространство,
П ока живые живут,
Да останусь и я в этом мире
Страданий рассеивать тьму». (Вступление, X:55).
В Тибете для устремлённых молодых монахов-послушников стало традицией учить наизусть весь труд Шантидевы «Вступление на путь деяний бодхисаттвы», чтобы его можно было читать нараспев во время коллективных молитв. Его тибетский перевод является целиком поэтическим, и каждая строфа состоит из четырёх безупречно срифмованных строк. По сей день я с радостью вспоминаю вечера, которые проводил в коллективном начитывании этого сочинения, восхищаясь поэтической красотой и глубиной строф Шантидевы, в монастыре Ганден на юге Индии, где я сам получил монастырское образование.
Ранее мы затронули некоторые из вопросов, которые могут задать современные читатели Шантидевы. Я хочу, чтобы строфы самого Шантидевы и ясные комментарии на них Далай-ламы говорили сами за себя. Однако как переводчик учений Далай-ламы я постараюсь дать некоторые разъяснения, которые, возможно, помогут читателям получить полезную базовую информацию о прозрениях Шантидевы и Далай-ламы. Тем самым я также надеюсь представить учения, содержащиеся в этой книге, в более широкой перспективе.
Тибетское слово сёпа, которое здесь переводится как «терпение», имеет различные оттенки смысла. Буквально сёпа означает «воздержание от каких-либо действий», а в его вербальной форме – «противостоять» либо «выдерживать что-либо», например, «выдерживать трудности». Однако когда слово сёпа используется для описания качества, например, человеческого характера, его значение лучше всего понимать как «терпимость». На тибетском языке про человека, обладающего развитым качеством терпимости, говорят, что он «велик в сёпа». Но всё же одно лишь слово «терпимость» не может охватить полное значение сёпа, ибо можно быть терпимым, но при этом совершенно нетерпеливым. В противовес этому считается, что тот, кто «велик в сёпа», также обладает терпением. Разумеется, я не предлагаю, чтобы этот тибетский термин переводился как «терпение/терпимость/воздержание», ибо это пошло бы вразрез со всеми установленными канонами литературного жанра [1] В своём переводе этих учений, данных Его Святейшеством Далай-ламой, Тхуптен Джинпа, тем не менее, постоянно употребляет два значения термина «сёпа» – «терпение» и «терпимость». Прим. пер. на русский язык.
. Я просто в данном случае хочу привлечь внимание к многозначности этого тибетского термина, чтобы читатель, по крайней мере, имел представление о сложности излагаемых в данной книге понятий.
Призывая к практике терпения, Шантидева не имеет в виду то, что мы должны просто покориться насилию и эксплуатации со стороны других. Он также не советует нам смиренно мириться со страданием и болью. Он призывает к решительному противодействию неприятностям и бедам. В своём комментарии Далай-лама проводит различие между покорностью и терпением. Он говорит о том, что истинное терпение может возникнуть лишь тогда, когда мы сознательно решаем не мстить другим за фактический или воображаемый вред. Ключевым моментом здесь является «сознательно занятая позиция». Несмотря на то, что ни Шантидева, ни Далай-лама открыто не дают определение терпению, мы можем принять за него следующую формулировку. «Терпение» (сёпа), согласно буддийскому пониманию этого термина, – это «решительное противостояние неприятностям, рождённое уравновешенным темпераментом, не колеблемым ни внешними, ни внутренними отвлечениями». Конечно же, это никак нельзя описать как пассивную покорность; скорее, это активный подход к неприятностям. Шантидева обсуждает тему терпения в рамках так называемых «трёх характеристик терпения». Вот они: 1) терпение, основанное на сознательном принятии боли и трудностей; 2) терпение, рождённое размышлением о природе реальности; 3) терпение вреда, причиняемого другими.
Шантидева описывает первый вид терпения в строфах 12–21. Он начинает с наблюдения о том, что боль и страдание являются естественными фактами бытия, и что отрицание этой истины может лишь добавить нам горестей. Затем он доказывает, что, если мы сможем впитать в себя эту основополагающую истину нашего существования, то получим от этого огромные преимущества в повседневной жизни. В первую очередь, мы увидим страдание как катализатор духовного роста. Шантидева косвенно указывает на то, что человек, способный таким образом реагировать на страдания, может добровольно выносить боль и трудности, которыми сопровождается стремление к достижению высшей цели. Теоретически мы все отдаём себе отчёт в этом принципе. Чтобы защититься от тропических болезней, мы часто добровольно идём на болезненные прививки. Утверждая, что для нас возможно научиться терпеть бо̀льшие страдания, чем мы испытываем сейчас, Шантидева пишет следующие незабвенные строки:
«Нет ничего, к чему постепенно
Нельзя было бы себя приучить.
И потому, привыкнув превозмогать небольшие страдания,
Сумеешь вытерпеть и великие муки». (Вступление, VI:14).
Он завершает рассмотрение первой характеристики терпения, привлекая внимание к положительным сторонам страдания, если в боли и страдании вообще можно найти что-либо «положительное». Шантидева утверждает, что именно переживаемое нами страдание пробуждает нас от духовной летаргии. Также именно страдание помогает нам сопереживать боли других, тем самым позволяя породить к ним подлинное сострадание. Кроме того, именно страдание внушает нам страх перед недобродетелью, который столь насущно необходим духовной личности. Наконец, именно постижение страдания укрепляет в нас стремление к духовной свободе. Конечно же, многие эти сантименты можно назвать религиозными, и современный читатель, возможно, сочтёт, что они имеют значение лишь для практика религии. Но основные прозрения Шантидевы на этот счёт остаются в силе. Иначе говоря, с должным отношением к боли и страданию даже их можно воспринимать с точки зрения их положительных последствий.
В строфах 22–34 рассматривается второй вид терпения: основанное на понимании природы реальности. Здесь центральным доводом Шантидевы является демонстрация того, каким образом поступки людей и события обусловлены паутиной множества различных факторов. Тем самым подчёркивается ключевой факт: многие условия, заставляющие других своими действиями причинять нам вред, на самом деле находятся за пределами их власти. Как выражается Шантидева, когда мы заболеваем, это происходит против нашего желания. Подобным образом, мы не хотим злиться, но часто нас охватывает гнев. Итак, можно поспорить, что в каком-то смысле нелогично, в отрыве от сложных обстоятельств, обвинять только другого человека в его вредоносном поступке. Для иллюстрации этого аргумента Шантидева приводит необычный анализ простого действия – человека, который бьёт нас палкой. Он показывает, каким образом и палка, и орудующий ею человек в равной мере виновны в причинении нам боли. Но, отмечает он, на более глубоком уровне даже лишь тот факт, что мы наделены физическим телом, является важным сопутствующим условием возникновения боли. Ещё одно условие, которое на самом деле оказывается ключевой причиной, – это отрицательная эмоция, изначально побудившая человека на причинение вреда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: