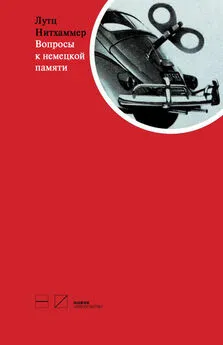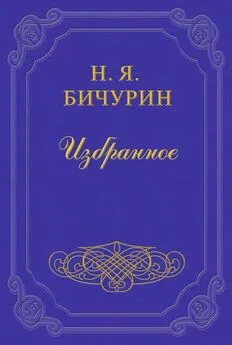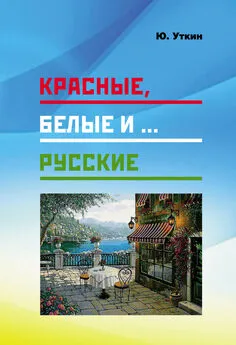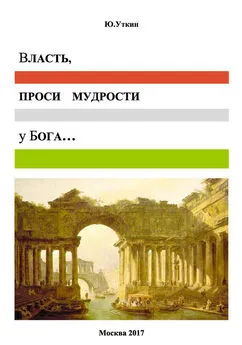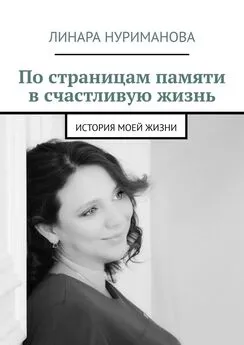Лутц Нитхаммер - Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории
- Название:Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-165-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лутц Нитхаммер - Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории краткое содержание
Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
{13} См.: Halbwachs M. Op. cit., а также более актуальный пример: Berger P.L. Lebenslauf und Lebensläufe: Vergangenheit nach Maß und von der Stange // Idem. Einladung zur Soziologie. Ölten, 1970. Прагматичный обзор см. в работе: Fuchs W. Op. cit. S. 167ff.
{14} Об этом наиболее важная работа: Schütze F. Die Technik des narrativen Interviews in Interaktionsfeldstudien, Arbeitsberichte und Forschungsmaterialien der Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld, hekt. 2 Aufl. 1978. Важная статья об анализе данных: Sieder R. Geschichten erzählen und Wissenschaft treiben // Mündliche Geschichte und Arbeiterbewegung. S. 203ff. (здесь S. 206f.), но ее проблема в том, что автор приравнивает друг к другу нарративное и биографическое интервью.
{15} Об этом классический текст: Scheuch E.K. Das Interview in der Sozialforschung // Handbuch der empirischen Sozialforschung / Hg. von R. König. 3 Aufl. München, 1973. Bd. 2. S. 66ff., а актуальный обзор литературы по качественным методам в социологических исследованиях см.: Fuchs W. Op. cit. S. 224ff.
{16} О технике интервью-воспоминания в юриспруденции см., например: Arntzen F. Vernehmungspsychologie. München, 1978; Trankell A. Der Realitätsgehalt von Zeugenaussagen. Göttingen, 1971.
{17} Психология допроса почти не занимается теми воспоминаниями, которые относятся к очень давним периодам жизни человека, однако в ходе второй волны процессов против нацистских преступников в 1960-х годах эта проблема стала актуальна: показания свидетелей зачастую ставились под сомнение за счет того, что доказывалось наличие ложных или неточных деталей в их воспоминаниях. На фоне опыта устной истории такие ошибки не удивляют, поскольку свидетели по прошествии столь долгого времени помнят только основные сцены или слова, а при рассказе вынуждены «заново инсценировать» весь эпизод. Интересная работа о вытеснении субъективных воспоминаний фильтром судебного процесса по политическому обвинению: Portelli A. The oral shape of the law: The “April 7” case in Italy (доклад на Международной конференции по устной истории в Барселоне в 1985 году).
{18} Призывая к смене перспективы, я, разумеется, не имею в виду, что на место гомогенной истории систем или истории власти надо поставить другую фантастическую картину, например, идеального обобщенного потребителя. Необходимо опереть восприятие различных взглядов на историю и тем самым покончить с их гомогенизацией, которую неизбежно осуществляет власть, и сделать их пригодными для обсуждения и усвоения. Поэтому совершенно справедливо про такие взгляды говорят, что они ставят под угрозу возможность исторического синтеза. Мне кажется не случайным то, что этим спорам предшествовало установление (прежде всего благодаря исследованиям Райнхарта Козеллека) такого представления об исторической науке, согласно которому единство ее предмета не является естественной данностью, а связано со специфической буржуазно-просветительской конъюнктурой.
{19} Я опираюсь на обобщающие научно-популярные описания: Mitscherlich A. Der Kampf um die Erinnerung: Psychoanalyse für fortgeschrittene Anfänger / 2 Aufl. München, 1984. S. 99ff.; MalcolmJ. Fragen an einen Psychoanalytiker. Stuttgart, 1983.
{20} За обращение психоанализа к подростковому периоду жизни выступают: Erdheim M. Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit: Eine Einführung in den ethnopsycho analytischen Prozeß. Frankfurt a. M., 1982. S. 271ff.; с социологических позиций: Döbert R., Nunner-Winkler G. Adoleszenzkrise und Identitätsbildung. Frankfurt a. M., 1975.
{21} См., например: Droysen J.G. Historik / 4 Aufl. Darmstadt, 1960. S. 332 (Grundriß, § 19).
{22} См.: Scheuch E.K. Op. cit. S. 82ff.
{23} На профессиональном жаргоне список тем и вопросов, которые нужно обсудить в интервью, называют «топик-гайдом» (англ. topic guide). Его целесообразнее всего делать в виде стопки карточек с блоками связанных по содержанию вопросов и стимулов на каждой, чтобы интервьюер мог менять их порядок, приспосабливаясь к ходу мысли респондента.
{24} Даже в тех случаях (в нашем проекте они встречались крайне редко), когда респондент решительно не знает, что рассказать о своей жизни, или отвечает отказом, считая такую просьбу неприемлемой. Второй случай несколько чаще встречался, когда с просьбой рассказать свою жизнь мы обращались к женщинам. Дело было, однако, не в том, что у них не было ретроспективного представления о собственной жизни, а, как правило, в том, что от историков, работающих в университете, эти женщины ожидали другого познавательного интереса – направленного не на их индивидуальную, а на общую историю или на то, что в обществе принято считать исторически значимым. Если удавалось этот барьер преодолеть, то получавшиеся в итоге интервью не сильно отличались от прочих. В целом можно сказать, что мужчины чаще структурировали хронологическую канву своей биографии датами из своей профессиональной сферы, женщины – чаще датами из истории семьи.
{25} Иногда респонденты просят выключить магнитофон, так как хотят сообщить интервьюеру нечто «не для протокола». Мне не известен в рамках нашего проекта ни один случай, который можно было бы истолковать в том смысле, что респондент хотел принципиально сменить сеттинг в сторону большей доверительности и собственной инициативы. Скорее дело было в том, чтобы в одной какой-то точке (например, когда человек хотел пересказать непроверенный слух или сплетню) выйти из-под непрерывного социального контроля, воплощением которого выглядит магнитофон. Таким образом, речь идет скорее о том, что такая просьба демонстрирует осознание респондентом публичного характера диалога. Порой возникало даже впечатление, что просьба выключить магнитофон служила способом подчеркнуть последующее сообщение – как в административном аппарате бывает надо поставить штамп «секретно» на документ, чтобы его наконец все прочли.
{26} Литературу по этой тематике см.: Lohmann H.-M. Psychoanalyse und Nationalsozialismus. Frankfurt a. M., 1984; Pollak M. L’experience concentrationnaire: ressources de pouvoir et sens d’identité // V Colloqui Internacional d’Historia Oral. P. 353sqq. Психологическое сопровождение следует понимать не как резерв для оказания первой помощи респондентам, а как супервизию для участников проекта, имеющую целью стимулировать и контролировать их саморефлексию.
{27} Исключение составляют крайне одинокие респонденты, которым разговор с интервьюером заменяет иные социальные контакты. Но для таких случаев следует порекомендовать не продолжение интервью, а специальные отдельные визиты.
{28} См., например: Samuel R. East End Underworld: Chapters in the Life of Arthur Harding. London, 1981.
{29} Поиск респондентов-добровольцев через объявления в средствах массовой информации, как показал наш опыт, для исследования по устной истории при отсутствии психологической супервизии несколько проблематичен, потому что за потребностью этих добровольцев многословно рассказывать о себе порой скрывается потребность в помощи или непроработанный опыт. В таких случаях велик риск для историка выйти за пределы своей компетенции и в плане помощи, и в плане интерпретации.
{30} Когда мы в рамках проекта LUSIR расширили круг респондентов, включив в него мелких предпринимателей, представителей свободных профессий и административных служащих, мы столкнулись при достижении договоренностей об интервью с гораздо более серьезными трудностями, чем когда имели дело с изначально выбранными категориями населения. Среди тех, в свою очередь, члены производственных советов, рабочие и домохозяйки легче шли на контакт, чем служащие. Очевидно, чем выше уровень образования, дохода и социальной включенности (за исключением тех элит, которые в профессиональном плане обречены на публичность, как в данном случае освобожденные члены производственных советов), тем больше люди стесняются говорить о связях своей частной жизни со всеобщим историческим опытом и в особенности с тем, который имеет отношение к национал-социализму. Рабочие и домохозяйки из рабочего класса в данном отношении явно подвержены менее строгому социальному контролю и меньше отделяют приватное от публичного; кроме того, они, видимо, чувствуютсебя менее ответственными за свое место в истории. Впрочем, таких предварительных наблюдений не достаточно, а специального исследования на данную тему нет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: