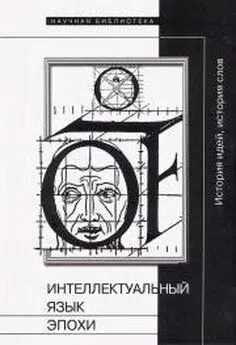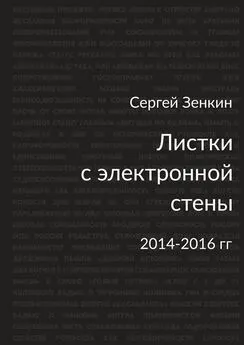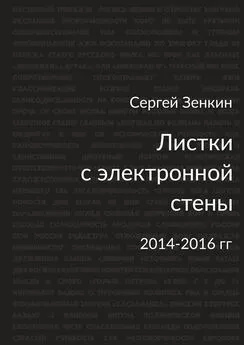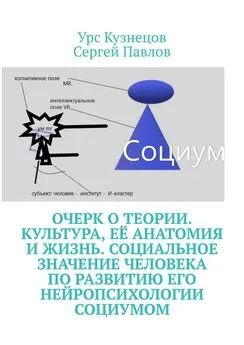Сергей Зенкин - Работы о теории. Статьи
- Название:Работы о теории. Статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0319-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Зенкин - Работы о теории. Статьи краткое содержание
Работы о теории. Статьи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако имманентные мотивы поступков отличаются большей однозначностью, чем их трансцендентные интерпретации, – просто потому, что первые устанавливаются одним историческим агентом в один определенный момент и в одной определенной ситуации, а вторые – многими историками, работающими в разное время и в рамках разных теоретических концепций. Ограничивая себя поиском имманентных мотивов-причин, микроистория оказывается связана лишь со скомпрометированной позитивистски-фактологической версией филологии и остается глуха, если не враждебна, к таким передовым ее течениям, как (пост)структурализм и герменевтика, которые работают не с причинами, а со смыслом (по-разному трактуемым) литературы и культуры в целом. Яростная критика постмодернизма, проходящая сквозь ряд работ К. Гинзбурга, имеет, вероятно, именно этот источник – желание остаться в рамках объяснительной, а не понимающей, каузальной, а не герменевтической парадигмы, удержаться от опасного, чреватого многозначностью увлечения смыслом, грозящего увлечь доказательную историческую реконструкцию в произвольность исторического романа. Устами К. Гинзбурга микроистория заявила о методологическом родстве своей «уликовой парадигмы» с детективным сыском [85] – моделью познания, которая хоть и практикуется более или менее стыдливо в филологии, но в принципе отвергается ею как измена высоким задачам культуры, когда постижение внутреннего смысла литературного произведения подменяют расследованием его более или менее внешних «причин», когда вместо раскрытия многозначности и неисчерпаемости текста публике предъявляют какой-либо простой и однозначный «ключ» к нему (биографический, политический и т. п.).
Примером различия филологического и микроисторического подходов может служить попытка К. Гинзбурга использовать в своем анализе столь важное понятие современной филологии, как понятие диалогического слова. В ряде работ, основанных на материалах судебных (инквизиционных) процессов, он мастерски прослеживает риторические стратегии каждой из сторон, интерпретирует синтагматический смысл каждой реплики, а в статье «Колдовство и народная набожность» делает важный теоретический вывод о структуре такого рода диалогов: по его мысли, влияние судьи на ответы подсудимого (с помощью пыток и техники допроса), конечно, имеет место, «однако встречаются и случаи вроде рассматриваемого, когда все это воздействие не может заставить ведьму полностью отречься от своей воли и в конечном счете признательные показания подсудимой оказываются своеобразным компромиссом между самой подсудимой и судьей» [86]. «Компромисс» – важнейший термин, который задает в диалогических отношениях между историческими агентами логику торга, то есть такого диалога, где оба участника сохраняют свое противостояние и борются за его сохранение. Есть, однако, и другой вид диалога, который основан на тесном взаимопроникновении дискурсов, отзывающихся друг на друга каждым словом в контексте либо любовного сближения, либо полемического противоборства. Этот второй тип диалога, или «интертекстуальность», интенсивно изучается в последние десятилетия филологами, обычно с опорой на металингвистику Бахтина. Два типа диалога несовместимы, и их различие нужно четко сознавать [87]. Между тем К. Гинзбург в другой своей статье («Голос другого. Восстание туземцев на Марианских островах») фактически пытается их примирить и привлекает себе в союзники именно Бахтина:
В книге «Проблемы поэтики Достоевского» (1929) великий русский критик Михаил Бахтин проводит различие между текстами монологическими (или монофоническими), где доминирует более или менее скрытый голос автора, и текстами диалогическими (или полифоническими), где разыгрывается конфликт между противоположными мировоззрениями, а автор не принимает в нем ничью сторону. В числе примеров этой второй категории Бахтин называет диалоги Платона и романы Достоевского. Никому не пришло бы в голову поставить в один ряд с ними агиографическое по своим интенциям повествование вроде «Истории Марианских островов» Легобьена [иезуита XVIII века]. Однако сама идея представить точку зрения туземцев через речь Хурао [вожака мятежников] может рассматриваться как попытка ввести в книгу намеренный диссонанс, который включает в монологическое по основной своей сути повествование диалогическое измерение [88].
Гинзбург соблюдает все меры предосторожности: предостерегает против ценностного уравнивания книг Платона или Достоевского с сочинением французского иезуита, подчеркивает, что в этом сочинении делается всего лишь «попытка» ввести «диалогическое измерение» в «монологическое по основной своей сути повествование». Остается, однако, невыясненным главное – и важнейшее – различие между текстом Легобьена и диалогическим словом, как его мыслил Бахтин: в «Истории Марианских островов» голос Другого (в данном случае непокорного туземца) лишь включен в синтагматическую развертку текста, ему там выделено определенное место – фрагмент прямой речи, соответствующий речам «дунайского крестьянина» из бродячего притчевого сюжета, с которым Гинзбург блестяще связывает генезис данного риторического пассажа в книге французского иезуита. Напротив того, в диалогическом слове по Бахтину – или в интертекстуальном слове по Ю. Кристевой, предложившей расширенную трактовку бахтинского диалогического принципа, – чужое слово накладывается на слово основного рассказчика, коэкстенсивно ему, звучит непосредственно в нем самом, благодаря жестам микроцитации, речевой оглядки, агрессии, иронии (в частности, сократовской) и т. д. Этот процесс взаимопроникновения двух дискурсов делает диалогическое слово неоднозначным и открытым для бесконечной реинтерпретации; Гинзбург же заменяет его гораздо более однозначным процессом торга-словопрения, где каждая сторона – и иезуиты-европейцы, и туземцы-мятежники – последовательно и отдельно заявляет свою правду. Единственный момент, где гладкая протяженность этой двуролевой риторики дает «трещину», связан, по мысли историка, не со взаимоналожением разных дискурсов, а с нечаянным вторжением в дискурс конкретной референциальности, материальной реальности – в данном случае это пересказанные автором-иезуитом слова дикаря о крысах, которых европейские корабли завезли на их острова:
Анализировать стратегии автора за защитной стеной единственного текста было бы в каком-то смысле успокоительным занятием. В такой перспективе говорить о реальности, располагающейся по ту сторону текста, было бы чисто позитивистским ухищрением. Однако в текстах бывают трещины. Из той трещины, которую я нашел, возникает нечто неожиданное – полчища крыс, которые разбрелись по свету, этакая оборотная сторона нашей «цивилизаторской миссии» [89].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: