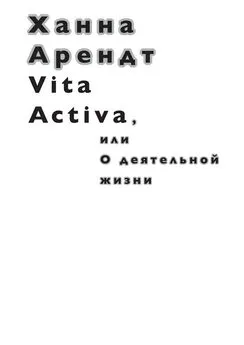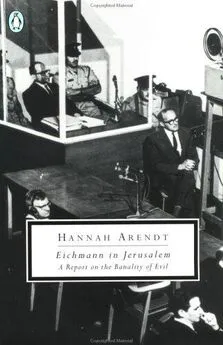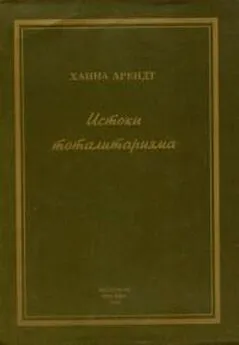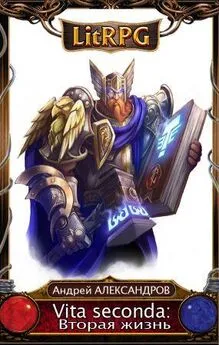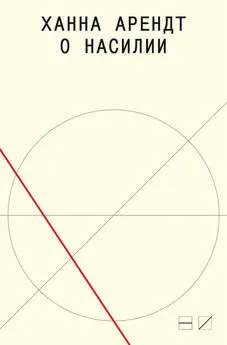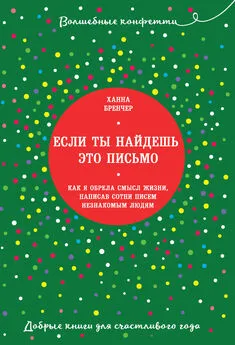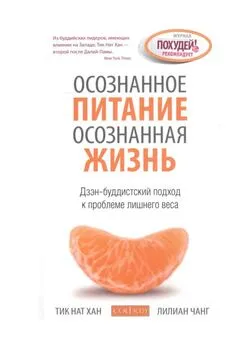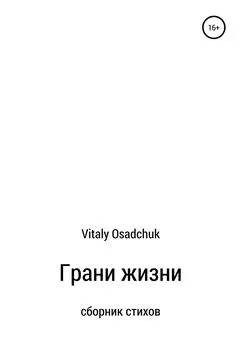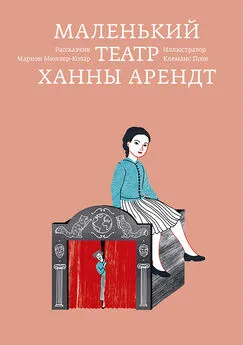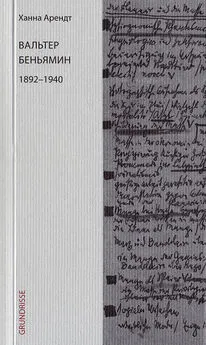Ханна Арендт - Vita Activa, или О деятельной жизни
- Название:Vita Activa, или О деятельной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-321-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханна Арендт - Vita Activa, или О деятельной жизни краткое содержание
Одно из редких философских произведений современности, способное увлечь любого образованного читателя.
Vita Activa, или О деятельной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На том же конформизме, которого требует социум и с помощью которого он организует поступающих людей в поведенческие группы, покоится и наука, шедшая следом за возникновением социума, а именно политическая экономия, чьим важнейшим техническим инструментом является статистика, где подрасчетность человеческих реакций подразумевается уже сама собой. Конечно, экономические теории существовали и до начала Нового времени, но они принадлежали к областям этики и политики, где не играли сколько-нибудь важной роли, причем исходили из предпосылки, что и в хозяйственных делах люди всё равно остаются еще действующими, поступающими существами. Свою заявку на научность подобные экономические теории вообще смогли выдвинуть лишь когда социум достиг поведенческого единства, чьи формы стало теперь возможно исследовать и унифицируя систематизировать, поскольку все диссонансы стало можно заносить на счет отклонений от значимой в обществе нормы и потому списывать как асоциальные или аномальные [59].
Законы статистики значимы везде там, где на сцену выступают очень большие числа или очень долгие отрезки времени; глядя со статистической точки зрения, деяния или события в их уникальности остаются просто отклонениями или колебаниями. Однако эта статистическая точка зрения по-своему оправданна, коль скоро деяния или события по самой своей сути редки и всегда выделяются на фоне повседневности, всегда поддающейся вычислению. При этом забывают только, что эта самая повседневность почерпает для себя свой смысл не из повседневности же, а из события или деяния, конституировавшего эту повседневность и ее будни; подобно тому как движение истории показывает свой реальный смысл на относительно редких событиях, прерывающих само это движение. Когда таким образом законы, значимость которых подтверждается только на больших числах и долгих промежутках времени, неосторожно прилагают к явлениям политики и истории, эти явления тем самым исподволь элиминируются, вгоняются, пусть на правах отклонений, в ту самую колею, откуда они правда и выбились, но куда они как раз не вписываются. Явно бессмысленное равно как и безнадежное предприятие – выискивать значение в политике или смысл в истории, предварительно исключив из них как несущественное как раз то, что не только несет в себе весь смысл и значение, но и способно наделить им то, что в себе ни смысла ни значения не имеет, – повседневное поведение и автоматические исторические процессы.
Из бесспорного действия статистических законов в области больших чисел для нашего современного мира следует к сожалению лишь то, что всякое приращение населения придает этим законам возрастающую значимость, на фоне которой «отклонения» становятся всё менее существенными. В аспекте политики это значит: чем больше растет население тех или иных политически конституировавшихся коллективов, тем больше вероятность того, что первенство внутри публичной сферы получит социальный, а не политический элемент. Греки, чей город-государство до сего дня представляет самое «индивидуалистическое» и самое неконформистское политическое тело, какое нам известно в истории, хотя и ничего не знали о статистике, однако отлично сознавали то обстоятельство, что полис, отдающий поступку и слову предпочтение перед любой другой деятельностью, может существовать только если число граждан удерживается в определенных границах. Большие скопления людей развивают почти автоматическую тенденцию к деспотическим формам правления, будь то тираническое господство одного человека или деспотизм того или иного большинства. Статистика, т. е. математическое манипулирование действительностью, была вплоть до новоевропейского сдвига неизвестна, но социальные феномены, делающие такую манипуляцию внутри области человеческих реалий возможной, – а именно большие числа, влекущие за собой в социальной практике конформизм, поведенчество и автоматизм, – грекам с их первых шагов были известны очень хорошо; это были как раз вещи, которыми персидская цивилизация отличалась от греческой.
Что бы поэтому ни выдвигалось против бихевиоризма и его теории поведения, трудно отрицать его релевантность для действительности, в которой мы живем. Чем больше людей налицо, тем более верными становятся его «законы» ведения себя, behavior, т. е. тем более правдоподобным кажется, что люди действительно следуют обычным линиям поведения, и тем менее правдоподобным – что они станут хотя бы просто терпеть тех, кто поступает иначе. Статистически это может сказаться в нивелировании отклонений и колебаний, в действительности же даст о себе знать в том, что поступок будет иметь всё меньше перспектив остановить растущий разлив поведенчества и события утратят свое значение, так что им уже не удастся прерывать и озарять своим светом историческое движение. В самом деле, статистическое причесывание исторических процессов под одну гребенку давно уже перестало быть безвредным научным идеалом; это с уже давнего времени скорее открытый политический идеал коллектива, который ничего не желает знать кроме «счастья» обыденного существования и потому по праву ищет и находит в социальных науках «истины», отвечающие его собственным экзистенциальным привычкам.
Для униформированного поведения, поддающегося статистическому просчету и потому научной дефиниции, либеральная гипотеза автоматической гармонии интересов в духе классической национальной экономии едва ли является достаточным объяснением. Не Марксу в первую очередь, но самим же либеральным экономистам-теоретикам пришлось ухватиться за «коммунистическую фикцию» и говорить об интересе общества как такового, ведущем «невидимой рукой» (Адам Смит) всех людей в их социальном поведении и так постоянно восстанавливающем гармонию противоборствующих интересов [60]. Разница между Марксом и его предшественниками была только та, что он, так же всерьез принимая факт противоборства интересов, как и научную гипотезу тайно в корне этого противоборства залегающей гармонии, оказывался только более последовательным, когда извлекал отсюда верный вывод, что «обобществление человека» автоматически приведет к гармонизации интересов; подобно тому как его предложение учредить в действительной жизни «коммунистическую фикцию», лежавшую в основе всех экономических теорий, от учений его предшественников отличалось прежде всего большей отвагой. Маркс не понимал – и в свою эпоху вряд ли мог понять, – именно того, что зародыши коммунистического общества уже наклевывались в реальности единого национального хозяйствования и что его полное развертывание саботировалось не столько теми или иными классовыми интересами, сколько монархической структурой национального государства, уже тогда устарелой. На пути «гладкого» функционирования социума стояли помехой еще некоторые традиции, а именно позиция «отсталых» классов. С точки зрения социальности дело тут шло лишь об интерферирующих факторах, сковывающих развитие «общественных сил»; они в известной мере были гораздо фиктивнее и дальше от действительности чем гипотетическая научная «фикция» коллективного интереса общества в целом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: