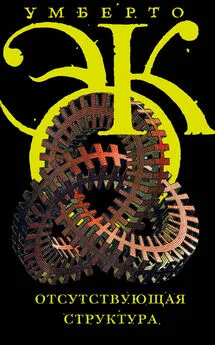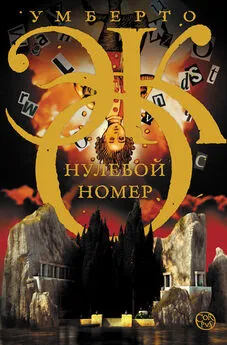Умберто Эко - Отсутствующая структура. Введение в семиологию
- Название:Отсутствующая структура. Введение в семиологию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Corpus
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-093387-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Умберто Эко - Отсутствующая структура. Введение в семиологию краткое содержание
Отсутствующая структура. Введение в семиологию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если мы снова призовем на помощь здравый смысл, то его ответ будет тот же, что и у моррисовской семиотики: «портрет человека иконичен только до известной степени, ведь покрытый красками холст совсем не то, что кожа, в отличие от изображенного на портрете человека портрет не наделен способностью говорить и двигаться. Кинематографическое изображение несколько более иконично, но тоже не вполне». Разумеется, такое рассуждение, выдержанное до конца, приведет Морриса, а равно и здравый смысл, не куда-нибудь, а к упразднению самого понятия иконичности: «Абсолютный иконический знак не может быть ничем иным, как собственным денотатом». Это то же самое, что сказать: подлинным и исчерпывающе иконическим знаком королевы Елизаветы будет не портрет Аннигони, а сама королева Елизавета или ее научно-фантастический «двойник». Моррис и сам на последующих страницах старается занять более гибкую позицию, утверждая: «Не будем забывать о том, что иконический знак только в некоторых своих аспектах подобен тому, что он означает. И стало быть, иконичность – вопрос степени» [115]. И когда, продолжая в том же духе и говоря о невизуальных иконических знаках, Моррис ссылается на ономатопею, становится ясно, что разговор о степенях, размывая понятие иконичности, делает его слишком неопределенным, потому что иконичность «ку-ка-ре-ку» [116]по отношению к крику петуха очень слабо выражена, и, кстати говоря, для французов соответствующий знак будет «ко-ке-ри-ко».
Весь вопрос в том, что мы понимаем под «некоторыми аспектами». Иконический знак сходен с означаемой вещью только в некоторых своих аспектах. Вот ответ, который может удовлетворить здравый смысл, но не семиологию.
II. 3. Рассмотрим один из примеров рекламы. В протянутой руке – стакан с пенящимся, переливающимся через край, только что налитым в него пивом. На запотевшем стекле капельки влаги, рождающие непосредственное (как это свойственно ипдексалъпым знакам) ощущение холода.
Трудно не согласиться с тем, что эта визуальная синтагма – иконический знак. И мы прекрасно понимаем, о каких свойствах означенного объекта идет речь. Но бумага – это бумага, а не пиво и холодное отпотевшее стекло. На самом деле, когда я вижу стакан с пивом – это старая проблема психологии восприятия, которой от веку занималась философия, – я воспринимаю пиво, стекло и холод, идущий от стакана, но я этого не ощущаю , я чувствую некие зрительные раздражения, цвета, пространственные отношения, освещение и т. д., хотя бы и организованные в какое-то поле восприятия, и я их координирую вплоть до того момента, пока не сложится некая структура, которая на основании имеющегося у меня опыта рождает ряд синестезий, в конце концов наводя меня на мысль о холодном пиве в стакане. Не иначе обстоят дела и с изображением стакана с пивом. Я реагирую на какие-то зрительные стимулы, координируя их в структуру и воспринимая образ. Я работаю с опытными данными, идущими ко мне от изображения, точно так, как я работаю с опытными данными, идущими ко мне от восприятия реального стакана: я их отбираю и группирую на основании определенных ожиданий, зависящих от имеющегося у меня опыта, стало быть, на основании сложившихся навыков и, следовательно, на основании кода. И все же в этом случае обсуждение соотношения кодов и сообщений не решает вопроса о природе иконического знака, касаясь по преимуществу самих механизмов восприятия, которые в конечном счете могут рассматриваться как механизмы коммуникации, т. е. такого процесса, который только тогда имеет место, когда благодаря навыкам определенные стимулы наделяются некоторым значением [117].
Итак, первый вывод, который можно сделать, таков: иконические знаки не «обладают свойствами объекта, который они представляют», но скорее воспроизводят некоторые общие условия восприятия на базе обычных кодов восприятия, отвергая одни стимулы и отбирая другие, те, что способны сформировать некую структуру восприятия, которая обладала бы – благодаря сложившемуся опытным путем коду – тем же «значением», что и объект иконического изображения.
Может сложиться впечатление, что это определение не так уж далеко ушло от понимания иконического знака или образа как чего-то такого, что обладает естественным сходством с реальным объектом, который они обозначают, если «иметь естественное сходство» означает быть не произвольным, но мотивированным знаком, чей смысл напрямую зависит от вещи, которую он представляет, и не опосредован соглашением, и не значит ли это, что пресловутое естественное сходство и воспроизведение некоторых общих условий восприятия по сути дела одно и то же. Любое изображение (рисунок или фотография) оказывается тогда чем-то «укорененным в самой реальности», примером «естественной выразительности», имманентности смысла вещи [118], присутствия самой реальности в ее стихийно возникающих смыслах [119].
Но если мы сомневаемся в существующих толкованиях понятия иконического знака, то это потому, что семиологии вообще не свойственно довольствоваться поверхностными и расхожими суждениями. В повседневной жизни никто не задается вопросом о том, как осуществляется общение, – осуществляется, и все, точно так же никто не задается вопросом, как получается, что мы что-то воспринимаем, – воспринимаем, и все. Но психология, если иметь в виду восприятие, и семиология, если иметь в виду коммуникацию, как раз и становятся сами собой именно тогда, когда стараются различить и сделать внятным то, что представляется стихийным и непроизвольным.
Наш повседневный опыт свидетельствует о том, что мы общаемся не только с помощью словесных знаков (произвольных, конвенциональных, артикулированных на основе дискретных единиц), но и с помощью фигуративных знаков (кажущихся естественными, мотивированными, тесно связанными с самими вещами и существующими в некоем континууме чувств); в связи с этим главный вопрос семиологии визуальных коммуникаций заключается в том, чтобы уразуметь, как получается, что не имеющий ни одного общего материального элемента с вещами графический и фотографический знак может быть сходным с вещами , оказаться похожим на вещи. Так вот, если у них нет никаких общих материальных элементов, может статься, что визуальный знак как-то передает соотношение форм. Но вопрос в том и состоит, чтобы разобраться, что это за отношения, каковы они и как они передаются. В противном случае всякое признание естественной мотивированности иконических знаков превращается в уступку иррационализму, а сам факт коммуникации при этом становится чудом.
II. 4. Но отчего изображение холодного отпотевшего стекла стакана с пивом является иконическим знаком? Ведь и реальное отпотевшее стекло видится мне как какая-то ровная прозрачная поверхность, отсвечивающая серебристыми бликами. Что касается рисунка, то на нем мне, благодаря цветовым контрастам, тоже видна ровная прозрачная поверхность, отсвечивающая серебристым отливом. Таким образом, сохраняется соотношение визуальных стимулов, характерное как для восприятия реального стакана, так и для его изображения, хотя материал, который стимулирует работу восприятия, всякий раз иной. Поэтому мы могли бы сказать, что изменение материала, стимулирующего работу восприятия, не влечет за собой изменения соотношения устанавливающихся в данном восприятии связей. Но если хорошенько подумать, то станет ясно, что это пресловутое соотношение связей слишком неопределенно. Почему отпотевшее стекло на рисунке, на которое на самом деле никакой свет не падает, но которое изображено так, как будто на него падает свет, тоже изображенный, создает впечатление серебристого отлива?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: