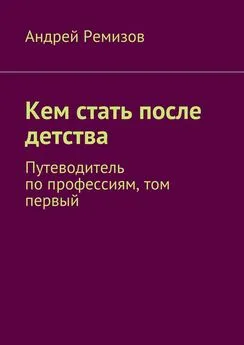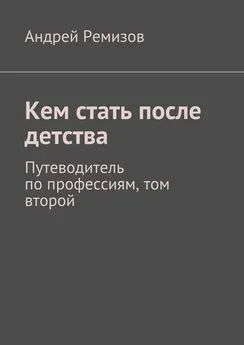Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
- Название:Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель, Олимп
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-23741-6, 978-5-7390-2341-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю краткое содержание
Литература, посвященная метафизике Москвы, начинается. Странно: метафизика, например, Петербурга — это уже целый корпус книг и эссе, особая часть которого — метафизическое краеведение. Между тем “петербурговедение” — слово ясное: знание города Петра; святого Петра; камня. А “москвоведение”? — знание Москвы, и только: имя города необъяснимо. Это как если бы в слове “астрономия” мы знали лишь значение второго корня. Получилась бы наука поименованья астр — красивая, японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение — веденье неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Вот почему странно, что метафизика до сих пор не прилагалась к нему. Книга Андрея Балдина “Московские праздные дни” рискует стать первой, стать, в самом деле, “А” и “Б” метафизического москвоведения. Не катехизисом, конечно, — слишком эссеистичен, индивидуален взгляд, и таких книг-взглядов должно быть только больше. Но ясно, что балдинский взгляд на предмет — из круга календаря — останется в такой литературе если не самым странным, то, пожалуй, самым трудным.
Эта книга ведет читателя в одно из самых необычных путешествий по Москве - по кругу московских праздников, старых и новых, больших и малых, светских, церковных и народных. Праздничный календарь полон разнообразных сведений: об ее прошлом и настоящем, о характере, привычках и чудачествах ее жителей, об архитектуре и метафизике древнего города, об исторически сложившемся противостоянии Москвы и Петербурга и еще о многом, многом другом. В календаре, как в зеркале, отражается Москва. Порой перед этим зеркалом она себя приукрашивает: в календаре часто попадаются сказки, выдумки и мифы, сочиненные самими горожанами. От этого путешествие по московскому времени делается еще интереснее. Под москвоведческим углом зрения совершенно неожиданно высвечиваются некоторые аспекты творчества таких национальных гениев, как Пушкин и Толстой.
Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Диоскор намеревался не выпускать ее до тех пор, пока она не обнаружит умения удерживаться от соблазнов. В итоге она прониклась идеями христиан и дала обет безбрачия. Отец не сразу узнал причину такой ее твердости, но вскоре выяснилось: вдруг до него доходит известие об ее тайном веровании! Оказалось, что ее крестил священник, приехавший из Константинополя под видом купца. Сначала обезумевший от гнева Диоскор хотел сам убить дочь, но затем отдал ее на казнь правителю города Мартиану. (Кого-то из них двоих русская сказка записывает в Кощеи и оборачивает историю Варвары счастливым концом.) В VI веке мощи святой были перенесены в Константинополь. В XII веке дочь византийского императора Варвара вышла замуж за князя Михаила Изяславича и перевезла мощи в Киев. (Они и сейчас покоятся в Киевском Владимирском соборе.) Вскоре после этого святая Варвара становится широко известна и почитаема по всей Руси.
К ней обращаются: «Ты бы, Варвара, день притачала». Надоела до смерти эта темнота. Очередная метафора декабря, заточившего человека «в башню». И Варвара ледяными иголками загодя начинает пришивать день и свет.
Морозы «заварварили». Трещит Варюха: «Береги нос и ухо!»
Один из самых почитаемых на Руси святых; в церкви большой праздник. Савва — первооснователь лавр, особого типа, общежительных монастырей. До него монахи и отшельники спасались поодиночке, теперь между ними нарисовалось общее освященное пространство. Лавра: проход, улица (между келий).
Савва салит . Стелет ледяные настилы, острит гвозди. Варвара мостит, Савва гвозди острит. Укатает Савва, будет земля укрыта справно. Варвара заварит, Савва засалит, Никола закует!
Остов вселенной, ее освященное пространство укрепляется все более. В этот день о погоде узнают, не выходя из дома, по огню в очаге. Если огонь красный и поленья сердито трещат — там, вовне, лютая стужа. Ледяная смола над землей висит.
Все впереди.
Тут нечего и толковать: название сезона — Пророки — говорит само за себя. Благословение творчеству, загадыванию пространства, которое по-прежнему так же далеко, как младенец Иисус от Рождества (если Матери его только три года).
Однако оно уже освящено, приуготовлено и согрето (мечтой, предощущением материнства).
На метафизическом чертеже Москвы Подсосенский переулок спрятан. Это не провал, но именно прятки, замыкание имени в место сокровенное.
Добавляется еще одна категория, условное обозначение на метафизической карте Москвы: к подъемам и спускам — прятки.
К только-только загаданному пространству нужно относиться с почтением. Это непременное правило пророчества. Пространство (помещение души) тем более неприкосновенно хрупко, что еще не родилось. Рассчитывать его, продергивать осями и чертить — грех. Да и скучно в конце концов. Но главное, рано. Нет его, оно только блик, неслышимый и невидимый.
Но уже сейчас оно одушевлено.
Глава четвертая
Никольщина
19 декабря ― Рождество
— Канун Николы — Первое объяснение: Дед Мороз — Случай в Донском — Второе объяснение: дед Часовод — народный календарь: Амвросий, Анфиса, «Анна Темная» — Третье объяснение: дед-с-приветом — Три Николая — Канун Николы (окончание) —
Никола Чудотворец для Москвы настолько важен, что даже канун его она отмечает как особый праздник. Ночь на 19 декабря (по старому стилю это 6-е) представляет для посвященных особый обряд, репетицию Рождественской ночи. Праздник сокровенный, закрытый и вместе с тем, с учетом предстоящей новогодней церемонии, весьма важный.
Никола зимний, он же Санта Клаус, он же Дед Мороз — ключевой предновогодний персонаж. Буквально: 19 декабря — это день-ключ , который, повернувшись, открывает нам дверь, подход к Рождеству. Образ Николы в категориях времени и пространства календаря очень устойчив: это святой-проводник, который ведет юный (следующий) год за руку, он знает секрет, как пройти к Новому году, как открыть его. И вот канун Николы — еще дверь не отперта, по эту сторону темно, весь свет за дверью, но уже в замочную скважину (нового года) старик-проводник вставляет день-ключ.
Никола «планирует» будущий год; в канун Николы положено загадывать желания вперед на целый год.
Он выполнит все просьбы. Николай Чудотворец помогает всем и во всем, во всех бедах и нуждах, даже от лютых волков в лесу. Для Москвы важнее прочего то, что он покровительствует торговле; она понимает в этом толк. Еще он спасает от болезней, какие только ни случатся. Чудеса, им совершенные или совершенные его именем, перечислить невозможно. Наконец, он добр, это по лицу видно. Даже Рождественский пост в этот день нестрогий: разрешена рыба.
Любовь Москвы к Николе безмерна. Недавно мы вспоминали Введение: Москва как будто не замечает Введения, не строит в честь него церквей и проч. С Николой все наоборот. Это самый популярный московский святой; ни одному другому не посвящено столько приходских московских церквей, как Николаю Чудотворцу.
В свое время в городе в пределах Садового кольца насчитывалось до сорока таких церквей. Каждая слобода, каждое московское собрание стремилось отметиться храмом в честь любимого святого. Одних названий было достаточно, чтобы составить топонимическую поэму. От Никольского храма Николо-Греческого монастыря на Никольской улице и далее: Никола Гостунский, Явленный, Стрелецкий, Заяузский, Заяицкий, даже Мокрый, «Водопоец», Никола Большой Крест и Красный Звон, Никола в Голутвине, Хлынове, Подкопае, Кузнецах, Пыжах, Пупышах, Звонарях, Кошелях или, к примеру, в Сапожке, был и такой, возле Кутафьей башни Кремля.
И противу всего этого красноречия — полторы Введенские церкви. Как будто специально два эти праздника поставлены рядом, чтобы показать, как по-разному может смотреть Москва; на Введение (в ноябре) она еще зажмурилась, не замечает ничего вокруг себя — на Николу глаза ее уже широко открыты.
Москва видит Николу, красит его пестро и ярко: на красном фоне старик с завитою бородой, по белым плечам черные кресты. Он как будто впереди иконы: сразу заступает вам во взгляд.
Эта яркость отдает торговой площадью и лубком. Полутона в Москве спрятаны в переулки; среди теней, в кружеве лип растворена бездна красок, но это обратная сторона московской живописи; впереди, на солнце, — все красное, белое, золотое: горит, словно облитое лаком. Здесь, в области эмблемы, обитает эмалевый Никола; Москва смотрит на него снизу вверх с восхищением, затаив дыхание.
Она с ним в родстве, причем он старше. Можно сказать, что он отец ей, и ее следует называть Москва Николаевна.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: