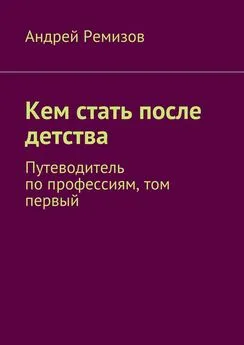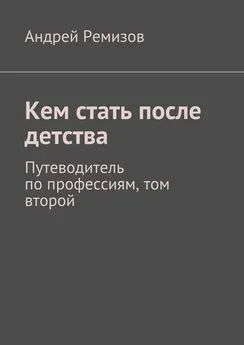Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
- Название:Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель, Олимп
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-23741-6, 978-5-7390-2341-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю краткое содержание
Литература, посвященная метафизике Москвы, начинается. Странно: метафизика, например, Петербурга — это уже целый корпус книг и эссе, особая часть которого — метафизическое краеведение. Между тем “петербурговедение” — слово ясное: знание города Петра; святого Петра; камня. А “москвоведение”? — знание Москвы, и только: имя города необъяснимо. Это как если бы в слове “астрономия” мы знали лишь значение второго корня. Получилась бы наука поименованья астр — красивая, японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение — веденье неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Вот почему странно, что метафизика до сих пор не прилагалась к нему. Книга Андрея Балдина “Московские праздные дни” рискует стать первой, стать, в самом деле, “А” и “Б” метафизического москвоведения. Не катехизисом, конечно, — слишком эссеистичен, индивидуален взгляд, и таких книг-взглядов должно быть только больше. Но ясно, что балдинский взгляд на предмет — из круга календаря — останется в такой литературе если не самым странным, то, пожалуй, самым трудным.
Эта книга ведет читателя в одно из самых необычных путешествий по Москве - по кругу московских праздников, старых и новых, больших и малых, светских, церковных и народных. Праздничный календарь полон разнообразных сведений: об ее прошлом и настоящем, о характере, привычках и чудачествах ее жителей, об архитектуре и метафизике древнего города, об исторически сложившемся противостоянии Москвы и Петербурга и еще о многом, многом другом. В календаре, как в зеркале, отражается Москва. Порой перед этим зеркалом она себя приукрашивает: в календаре часто попадаются сказки, выдумки и мифы, сочиненные самими горожанами. От этого путешествие по московскому времени делается еще интереснее. Под москвоведческим углом зрения совершенно неожиданно высвечиваются некоторые аспекты творчества таких национальных гениев, как Пушкин и Толстой.
Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пасха (дама) простая, обыкновенная. Кстати, это две разные пасхи, простая и обыкновенная, в простой есть ваниль, в обыкновенной нет, зато для нее используется чухонское (финское) масло.
Справка: чухонское — кухонное (это не одно ли слово?) масло, «получаемое сбиванием сметаны или сквашенного молока, обыкновенно идет на изготовление кушаний, а также перерабатывается в топленое масло». Брокгауз и Ефрон, из статьи про слово «масло» (коровье). Слово — масло.
Еще известны пасха на яйцах, на яйцах и сливках, обварная, заварная, коричневая, красная, сливочная, царская.
Пасха царская
Взять 5 фунтов свежего творога протереть сквозь сито, 10 сырых яиц, 1 фунт самого свежего масла (сливочного), 2 фунта самой свежей сметаны, сложить все в кастрюльку и поставить на плиту, мешая постоянно деревянной лопаточкой, чтобы не пригорело. Как только дама — стоп! тут еще нет дамы, пока только творог — дойдет до кипения, то есть покажется хоть один пузырек, то сейчас же снять ее с огня, поставить на лед и мешать, пока совсем не остынет. Тогда положить от 1 до 2 фунтов сахара, толченого с ванилью, 1/2 стакана коринки, размешать хорошенько, сложить в большую форму, выложенную салфеткою, и положить под пресс.
Яйца (с ними не нужно никакой перестановки слов, этот тот еще народец ) красят в лоскутах линючей шелковой материи. Оные лоскутки необходимо расщипать на нитки и перемешать. Вымыть народец дочиста, вытереть досуха, потом опять намочить, завернуть в шелк и еще оклеить узорно кусочками синей бархатной бумаги. Все сооружение покрывается ветошкой, обвязывается нитками и опускается в кастрюльку с теплой водой. От того момента, как она закипит, варить 10 минут, вынуть, остудить и только потом снимать барахло (так в оригинале).
Еще безо всякого линючего барахла обвязывают просто ветошкой и сверху деревянной палочкой делают чернильные кляксы.
Желтый цвет народца получается от высушенных листьев березы. Оранжевый — от луковой шелухи. Для блеска после варения все новонародившиеся фигуры натираются ваткой с подсолнечным маслом.
Встреча курицы с яйцом
В записках Василия Андреевича Абрикосова (одного из корреспондентов знаменитых братьев Аксаковых, славянофилов и ревнителей московской старины) есть описание странного разговора, произошедшего в самую Пасху, на Мясницкой улице, в том самом месте, где она пересекаема бульварами, а рядом поднимается на двадцать с лишним сажен церковь Михаила Архангела, она же Меньшикова башня. Два мужика обыкновенной наружности, чертя над головой пальцами и что-то рисуя в неустойчивых апрельских небесах, спорили до хрипоты, и уже собрали вокруг себя некоторое количество зевак. Тема спора показалась Абрикосову в высшей степени любопытной. Мужики обсуждали, какая курица могла снести изначальное пасхальное яйцо.
Сразу же нужно уточнить, что в этих пасхальных словопрениях не ставился существенный религиозный вопрос и покушения на евангельские прототипы не происходило.
Почитание пасхального яйца, равно как и самого Великого праздника, главнейшего в Москве, всегда было неизменно. Напротив — шутовские разговоры только оттеняли глубину переживаний Страстной недели, Пасхи и светлой Седмицы.
Однако самые серьезные и проникновенные чувства не мешали спорщикам пускаться в замысловатые рассуждения, сотворять мифы, и затем с горячностью их обсуждать.
Самым курьезным было то, что существование первокурицы ни мужиками, ни окружающими ристалище зрителями сомнению не подвергалось. Единственное, в чем никак не могли сойтись спорщики, была масть сверхъестественной птицы, какой она была расцветки, размеру и характера.
Видимо, само пространство горбатой и кривоколенной московской земли таково, что в нем постоянно заводятся подобные небылицы и составляются несообразности и нелепицы. Точно так же и московское население готово во всякую минуту броситься спорить на самую невероятную и отвлеченную тему. (Здесь нужно оговориться, что речь идет о середине девятнадцатого века. С тех пор желание спорить на отвлеченные темы несколько уменьшилось, хотя и не истребилось окончательно.) Неудивительно, что вопрос о таинственной курице не оставил москвичей равнодушными. Вряд ли подобные дискуссии могли принести какую-то пользу положительному знанию, однако праздничной московской физиономии они добавляли красок. За внешне бессмысленным спором рисовался своеобразный и яркий образ столицы.
Первый из спорщиков, полный и живой, с косматой бородой мужичина, утверждал, что первоначальная пасхальная курица была непременно пеструшкой . Пестрота ее, по мнению мужика, указывала на суету и смуту здешней, земной жизни, и что раз уж все куры мелки, неразличимы и пестры, то первейшая среди них должна была быть особенно скромна и незаметна. Тем более, что в простоте своей она предназначена была адресовать непременный воскресный подарок, яйцо — каждому человеку, вплоть до сирых и убогих, самых отверженных людей. Абрикосова поразили эти эгалитарные доводы, и, кстати сказать, они нашли немало сторонников среди скопившейся толпы зевак, где преобладали люди именно что сирые и убогие, впрочем, по праздничному обычаю, веселые. Но тут выступил со своими аргументами противник, и оказалось, что вопрос сложнее, чем показалось сначала. Второй спорщик утверждал, что праздничная птица была совершенно, без малейшего светлого пятнышка, черной. Ибо, как совершенно был убежден сторонник угольной куриной масти (сам, кстати, бледный и тощий, как картофельный росток), если светлейшее яйцо явилось ночью, то принесшая его курица обязательно была кромешно черной, чтобы при всех своих чудесных размерах — в полнеба — остаться никому не заметной. Чернота курицы необходима была к тому же для того, чтобы еще ясней разразилось светлейшее вокруг яйца сияние. И на Пасху, добавил он, крестный ход совершается ночью, в самую тьму. Как будто оная птица присела, защищая из нее же изошедший свет. (Так у Абрикосова; какими словами описывал мужик то, что курица высидела свет, до нас не дошло, впрочем, может, оно и к лучшему.)
Но образ был доходчив: картины — только что, ночью совершившейся заутрени, крестного хода, своими золотыми огнями, скрещенными свечами, сиянием риз раздвигающего черные перья тьмы , — немедленно всплыли в памяти Абрикосова.
И далее: Курица Ночная помещается надо всей землей, всю эту землю, словно гнездо, согревая, подавая ей пример самоотверженного плодородия и прочая. Эти доводы также вызвали в толпе одобрение, даже приведены были примеры, о которых чуть ниже.
Уверенность мужиков была настолько велика, что спустя непродолжительное время Абрикосов поймал себя на том, что сам подбирает аргументы в пользу той или иной теории, в то время как существование курицы и для него уже сделалось очевидно. Посмеявшись, он отошел от спорщиков и направился далее к центру, как вдруг подумал, что указанный шпиль Меньшиковой башни более всего напоминает ему сияющий куриный клюв.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: