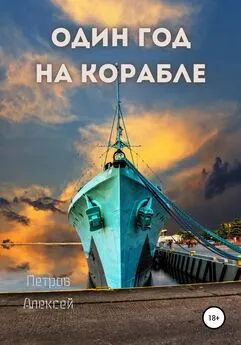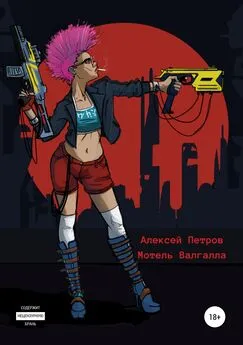Алексей Петров - Con amore
- Название:Con amore
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Петров - Con amore краткое содержание
В последнее время редко можно встретить в журналах такие тексты. Между тем, на мой взгляд, они достойны публикации и читательского внимания. Детство — неисчерпаемый источник тем для любого писателя, первые проблемы и сомнения спустя многие годы кажутся смешными, наивными. Но остается ностальгия по тому времени, когда человек только осваивал жизнь. Как можно писать иначе о детстве? Только с любовью… Или Con amore…
Желаю всем приятного чтения.
Редактор литературного журнала «Точка Зрения»,
Анна Болкисева
Con amore - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Не торопись, не убежит, — смеялась мама.
Отец помешивал в посудине столовой ложкой, стараясь загрести со дна масло, чтобы полить им вершину горки.
— Ты с‑под спуда, с‑под спуда бери, там самое вкусное, — советовал он Лёньке. — И лучок, лучок прихватывай, не стесняйся…
— Да–да, — кивала головой мама, — лук — это всегда полезно. Старики говорят: «Лук — от всех недуг»…
— Не «недуг», а «недугов», — поправлял её Лёнька. Он терпеть не мог жареный лук, всегда норовил его сдвинуть вилкой на край тарелки, но с варениками даже такая гадость, как лук, казалась ему на редкость вкусной. Да что там говорить, без лука вареники — это не еда вовсе, а так… полуфабрикат.
8
Днём часто показывали по телевизору хоккей. Обычно играли московские команды («Спартак», «Динамо», ЦСКА), в крайнем случае «Торпедо» из Горького, но и это было интересно. Лучшие советские игроки тогда ещё ни в какие там Канады и Америки не уезжали, поэтому болельщики имели возможность в полной мере наслаждаться игрой чемпионов мира — Фирсова, Старшинова, Харламова, Мальцева, Коноваленко, Третьяка… Да разве всех перечислишь? Голос комментатора Николая Озерова был так же привычен в каждом доме, как, скажем, мелодия гимна Советского Союза или энергичные команды ведущего утренней зарядки по радио («Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вверх — р-рраз!..»). Озеров был подлинным мастером своего дела. Многие его фразы запоминались сразу, на лету и быстро превращались в штампы. Потом, после телевизионных трансляций, дворовые игроки, для которых хоккей без голоса «дяди Коли» казался немножко скучноватым, ненастоящим, то и дело подпускали в паузах что–нибудь «из Озерова», как бы комментируя собственную игру: «Вратарь демонстрирует чудеса!», «Игра страстная, темпераментная, напористая!», «Умеет забивать и любит это делать»… Уже малость подуставший за полдня (с пяти ведь утра на ногах!), отец Лёньки укладывался на диван и сквозь блаженную полудрёму поглядывал на экран, зная наперёд, что победит непременно команда ЦСКА, «которая переманила всех лучших игроков, забрала их себе в армию, а теперь разве справится с ней кто–нибудь?»
Для Лёньки же было крайне утомительно два с половиной часа сидеть без движения перед телевизором и смотреть хоккей. Хотелось играть самому. Лёнька брал клюшку и бежал во двор. А там уже дворовая братва «сговаривалась», то есть делилась на команды, а потом до темна, до дрожи в коленях, до кругов перед глазами рубилась отчаянно, самозабвенно, словно в последний раз.
Греться ходили в подвал дома, где рядом с бойлерной в тёплой полутёмной комнатёнке стоял старый, прожжённый сигаретными «бычками» диван, на полу — дощатые ящики, а у маленького окошка на улицу — табурет и облезлый замасленный стол. По вечерам здесь собирались котельщики и слесари, пили портвейн и стучали в домино, днём же — дворовые пацаны. Травили анекдоты, много спорили о футболе и хоккее, рассказывали небылицы о лучших игроках, кто–то курил «Плиску» или «Дымок», небрежно сплёвывая сквозь зубы на пол, а если приходили ребята постарше, то со скучающим видом потягивали прямо из «горла» «Солнцедар» или «Бiле мiцне» (именуемое в народе «биомицином»), матерились, бренчали на гитаре и врали о своих приключениях с девчонками. Младших не прогоняли — наоборот, охотнее бахвалились друг перед другом именно тогда, когда присутствовали «пионэры». Лёнька же и вовсе был в почёте. Во–первых, утончённый ценитель прекрасного Саня Пипетка когда–то похвалил музыкальные способности восьмилетнего Ковалёва, а это дорогого стоит, Саня — авторитет беспрекословный; а во–вторых, Лёнька уже и сам немного играл на гитаре и мог на трёх аккордах семиструнки исполнить любимый всеми битловский «Вавилон»: «О, Вавило–о–он! О-о! Но–но, но–но, о!»
В Ливерпуле, в кабаке, в длинных сюртуках
стоят четыре чувака с гитарами в руках, —
пел Лёнька визгливо и чуть хрипло, стильно встряхивая косматой гривкой и отбивая подошвой ритм. Эту песню хорошо знали во дворе. Тогда почти все пацаны слушали «Голос Америки», но совсем не политику (кому нужна эта нудьга?), а, напротив, концерты популярной музыки по средам в восемь вечера. Радиостанцию находили на коротких волнах, и тогда сквозь шум и треск, сквозь рёв глушилок (все были уверены, что где–то на границе с Польшей стоят гигантские глушилки, предназначенные для того, чтобы мешать советским людям слушать гнусную крамолу с Запада) пробивался слегка надменный и очень–очень иностранный голос ведущего передачи Юрия Асмоловского. Послушать «Битлз» и «Роллинг стоунз» тогда можно было только по радио, отыскав на КВ «вражьи голоса». К этому времени уже закончился период «музыки на костях», когда рок–н–ролл записывался на использованных рентгеновских плёнках: все уже понимали, что такими доморощенными поделками можно испортить иголку проигрывателя, да и качество звука было не ахти. Купить же фирменный диск с «битлами», «криденсами» и «роллингами» было практически невозможно: пластинка стоила ползарплаты инженера. Вот и слушали «Голос Америки» и Би — Би-Си, где регулярно крутили и «Мишель», и «Естэдэй», и конечно же великолепный «Вавилон» — «рок–н–ролл всех времён и народов». Только гораздо позже Лёнька Ковалёв случайно узнал, что это вовсе никакой не «О, Вавилон», а «Can’t buy me love» («Любовь нельзя купить»), но в первое время никто английского не знал, поэтому пели то, что уже «перевели» на русский какие–то неизвестные умельцы:
Девки вьются,
юбки рвутся,
а битлы всё поют.
О, Вавило–о–он!
Но всё же гораздо большим уважением у подвальной компании пользовалась музыка «русская», отечественная. И самой главной, самой «русской» из них была песня «про тягнычок», которую проникновенно, с душой, с надрывом исполнял конопатый пэтэушник Тарас Григораш, изредка забредавший в бойлерную на огонёк и звуки гитарных переборов. Все знали эту песню и раньше, до Тараса: её пел Юрий Никулин в фильме «Операция «Ы» («Постой, паровоз, не стучите, колёса…»), — но Тарас делал её оригинально, по–своему:
Почекай, тягнычок,
и не ляпайте, колы.
Кондуктор, натысни на гальма…
Особенно всем нравилась «роковая» фраза, которая в оригинале звучит как «Меня засосала опасная трясина», а в исполнении Григораша выглядела несколько иначе: «Мэнэ засмоктала нэбэспэчна трясонына…», — этот фрагмент пели хором, громко, с чувством.
Тарас был странным парнем. Отчего–то больше всего на свете он ненавидел лягушек и воробьёв и уничтожал их десятками. Оружием ему служила аккуратная маленькая рогатка, сделанная из жёсткой проволоки и резинки — «венгерки». Пульки для рогатки Григораш сворачивал из упругой алюминиевой жилки потоньше, и если такой снаряд попадал в цель, дичь падала замертво. Впрочем, иногда постреливали не только по воробьям — по девчоночьим ногам тоже любили. Весело был наблюдать, как поползёт вдруг капрон чулка на бедре у надменной прохожей, как взвизгнет, горько вскрикнет случайная жертва, растерянно уставится на свою ногу, зальётся слезами от боли и обиды… Лягушек Тарас называл «шкрэками», а воробьёв «жидами». Летом, «в сезон», он носил с собой шкатулку, где хранил самые дорогие ему охотничьи трофеи: лапки «шкрэков» и крылышки «жидов». Вся эта тошнотворная, уже попахивающая дохлятина выглядела мерзко, отвратительно. Но зато Григораш лучше всех во дворе играл на гитаре, поэтому ему до поры прощали бессмысленную жестокость в отношении к местной фауне. Тарас знал и «Серую юбку», и «Девушку из Нагасаки», и «Поручика Голицына», и «Дорогую пропажу», и «Колокола» («А я возьму и каждый ноготок перецелую, сердцем согревая»)… На радио и на телевидении эти песни, конечно, не звучали, но Григораш знал «городской фольклор» досконально.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: