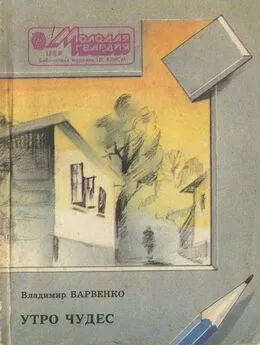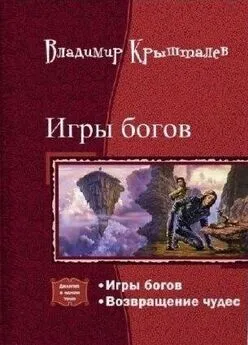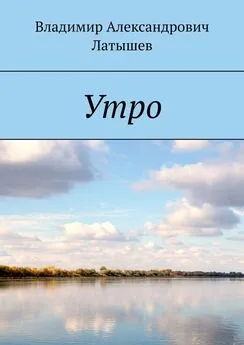Владимир Барвенко - Утро чудес
- Название:Утро чудес
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-235-01147-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Барвенко - Утро чудес краткое содержание
Проникнутая светлым лирическим чувством, психологически достоверная повесть В. Барвенко рассказывает о юности паренька из небольшого провинциального города.
Утро чудес - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— По-разному, — уклонился от разговора учитель.
— Вам здесь нельзя жить. Здесь сыро. Вам бы, Борис Ефимович, переехать, — посоветовал я.
— Переехать бы не грех. Конечно, сыровато. Все-таки три метра ниже уровня мирового океана, — невесело пошутил учитель. — А что поделаешь? Вон в центре города почти все разрушенные дома восстановили. Скоро, значит, новые начнут строить. С балконами… Так что подождем, Эдуард. Да и не все так страшно, хлопцы. Скоро весна, а весной у нас хорошо. Сады цветут. Роща рядом — десять минут пешком. Воздух — чудо! Соловушки поют, одно удовольствие на этюдах.
— А мой бы папа тут не стал жить. Он бы добился. Папка тоже воевал и раненый. Он даже на вторую комнату договорился с начальством. Наша соседка Везухина собиралась на целину, и нам обещали ее комнату отдать. Нас трое в комнате, а она одна, как царица. Факт. Только Римка никуда не уехала. Там же на целине настоящий фронт! А ей бы фасонить. Сейчас у нас ремонт начинают. Папка добился, факт. Он чего хочешь может добиться, потому что совсем не трусит начальства, — с привычным напором высказался Сережка.
Борис Ефимович, прищурившись, посмотрел на Катриша.
— Твой папа, Сережа, смелый человек, а я вот робею перед начальством. У них забот побольше моих будет.
— Ну мы пойдем. Топаем домой, Эдь, — забеспокоился неожиданно Сережка, дернул меня за рукав. — Пошли, пошли, еще уроки учить.
— Уроки учить надо, — согласился учитель. — Уроки святое дело. Я вас понимаю, ребята.
Он сунул кисть в баночку, снял картину с мольберта и сделал еще несколько замечаний, которые я почти не слушал — моим вниманием овладели заманчивые рамки у стены. Это были готовые работы, и мне очень хотелось на них взглянуть.
— Борис Ефимович, покажите свои картины. У вас их, наверное, много, — набравшись-таки храбрости, попросил я учителя. А Сережка взял у него мой холст и скоренько уложил в чемоданчик. Куда он торопится?
— Ну, так уж и много. Есть кое-что. Только свеженького предложить пока не могу. Хотя вы и старых-то моих работ не видели. Сейчас, хлопцы, одну минутку.
Я думал, что Ефимыч шагнет к тем рамкам, которые у стены, а он принес картины из другой комнаты. Их было две.
— Пишу сейчас мало. Не хватает времени для себя, — говорил он, устраивая картины на стульях, ближе к окну. — Полно оформительских работ. И еще таким вот художникам вроде тебя, Эдуард, помогаю. Сейчас выставку готовим, видите, сколько нанесли?
Взмахом головы он указал на те самые рамки.
— Вот, пожалуйста…
На одной картине — крепкий парень, с чуть припорошенным синеватой угольной пылью лицом, в черной шахтерской робе пил из ковшика молоко. Белая струйка стекала по жесткой бороде. А напротив шахтера была изображена худенькая девушка, почти девчонка, в платьице в горошек. Она придерживала одной рукой ковшик и, улыбаясь, поглядывала на парня большущими голубыми глазами. Небо над ними висело голубое, полное, утреннее. Вдали, у кромки горизонта, слабая дымка чуть-чуть окутывала шахтные копры и терриконы, и след ее тянулся к едва различимому поселку, к дворам. Все на холсте было знакомым, простым и естественным, казалось, Ефимыч только и сделал, что отворил окно весенним утром. Однако я ожидал чего-то необыкновенного и был немножко разочарован. Только глаза девушки оставляли ощущение тревоги, и отчего-то хотелось еще и еще раз заглянуть в них. Такие глаза помнятся долго, может быть, всю жизнь. Картина называлась «Ночная смена».
На другой — «Новенький» — скуластый, сильный парень весело примерял шахтерку. Кто-то из горняков похлопывал его по плечу, кто-то поправлял воротник. И все улыбались просто и молодо. Только старый сухой горняк смотрел оценивающе, строго, так и буравил новичка мелкими, из-под крутого лба, глазками. И тут же, на скамейке, рядом с коногонкой [1] Коногонка — так называли шахтеры бензиновую лампу.
лежала выгоревшая, со следами от медалей, гимнастерка.
— Я до войны, хлопцы, в шахте работал, навалоотбойщиком, — сказал Ефимыч негромко, как бы в раздумье, надорванным своим голосом.
…Я и после видел картины Ефимыча, потому что частенько бывал у него со своими рисунками и акварелями. Мне нравились здоровые, сильные люди на его полотнах, выписанные художником очень любовно. Они словно утверждали собой земную тишину, наступивший мир и покой…
Когда мы вышли от Ефимыча, было уже безветренно, тихо, только от шахтного копра шел сиплый гул. Поселок не торопился открывать себя вечеру, в нем было еще по-дневному светло и людно, но на островках снега на крышах уже притаились фиолетовые сумеречные тени. Дышалось легко, и пахло талой степной свежестью. За шахтным терриконом на склоне балочки с посеревшим ноздреватым снегом нахохлились вороны. Сережка запустил в них камнем. Они вспорхнули тяжело и протяжно, горько закаркали. И мне стало очень тревожно.
— Ух, воронье племя, — пригрозил им кулаком Сережка и свистнул еще. — Слышь, Эдь, а Ефимыч, наверное, тубик.
— Какой еще тубик? Никакой Ефимыч не тубик, — разозлился я. — Я тебе сейчас как тресну, тубик несчастный.
Я зашагал быстро, почти побежал от Сережки, но он догнал меня, схватил за рукав.
— Ты думаешь, мне его не жаль, да? Думаешь, никого на свете не жаль. Тебе жаль, а мне нет, да? — шмыгал носом Катриш. — И… и… фонарик твой не возьму. Не возьму, понял…
Картина «Ночная купальщица» подвигалась медленно. Я писал ее вечерами, потому что днем некогда — до обеда школа, а затем уроки — подготовка к экзаменам, и множество всяких дел.
Весной всегда много интересных дел, и все они, оказывается, там, за твоим окном, под голубым небом. Но каждый вечер я аккуратно принимался за работу. Я подолгу, с наслаждением готовил краски. Но вот я прикасался кистью к холсту, и меня тут же брала робость, появлялось странное, новое волнение. Особенно когда я писал девушку. Она получалась у меня совершенно не той, которую рисовало мое воображение, — не было тонкости, изящества движений купальщицы, в которых бы угадывалась ее красота и слышалась музыка. Я нервничал и бросал кисть.
А ночью передо мной опять возникал ее удивительный образ. И я мечтал. Но мечтал почему-то не о том, что однажды на моем холсте произойдет чудо, — ночная купальщица оживет и закружится в танце; желтый диск луны станет бубном в ее руках, а море — роскошным платьем. А о том, какие разговоры вызовет моя новая картина у ребят нашей школы. Да только ли в школе, во всем городе!
Иногда я ходил в библиотеку и смотрел там альбомы с репродукциями великих художников: Рубенса, Рембрандта, Веронезе, Леонардо да Винчи, Эль Греко…
Я вглядывался в круглые с блаженными улыбками лица мадонн, в тяжелые глаза мужчин, вероятно, выписанные художником не в лучшие минуты жизни, и пытался понять, почему эти картины признаны шедеврами? Большеголовые мадонны Леонардо да Винчи ничуть не волновали меня, а тревожно-суровые лица апостолов, горемычных стариков и старух на полотнах далеких живописцев вызывали во мне только чувство печали. Зачем они? А тут еще темный фон полотен, на котором люди словно обречены были на страдания, — как угнетающе он действовал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: