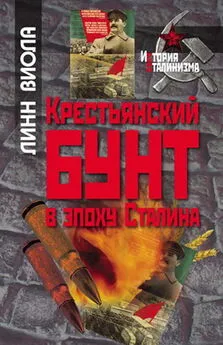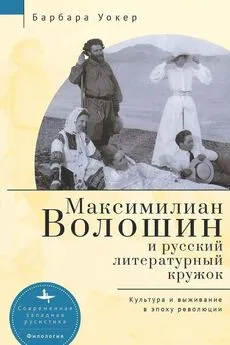Н. Кононенко - Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 3
- Название:Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449379221
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Кононенко - Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 3 краткое содержание
Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если «Великий диктатор» стала первой картиной, где Чарли обрел дар речи, то в «Месье Верду» Чаплин впервые отказался от маски Чарли. То был страшно рискованный эксперимент, поскольку маска тщедушного бродяги, взрослого ребенка стала лицом Чарльза Спенсера Чаплина. Казалось, что отбросить маску значило потерять себя. Повторю цитату из Шкловского: «Зачем ему меняться? Он неизменяемое мерило изменяющихся миров». Но действительность в ХХ веке трансформировалась слишком стремительно. Еще в 20-е годы самой разительной ее приметой стала механистичная индустрия. Как отклик на нее смотрелись знаменитые гэги с конвейером и кормящей машиной в «Новых временах», где живому человеку назначено стать деталью, колесиком машины. А уже в конце 30-х ее навязчивыми мотивами становятся фашизм, войны… Тогда-то у Чарли появляется двойник – Хинкель.
Чаплин гениально, скорее всего, на подсознательном уровне, угадал эту двоякую природу человеческой цивилизации. Вторая Мировая война столкнула обе природы.
И вот наступает суровое послевоенное время, когда массовый человек адаптировался к бесчеловечности, которая, в свою очередь, стала его органичной частью. И тогда инстинктивно сердечный Чарли внутренне раздваивается и предстает перед нами месье Верду, альфонсом и убийцей тех прекрасных дам, на чьи средства живет и выхаживает свою жену-калеку.
Респектабельный, элегантный месье Верду – уже совсем другое мерило, нежели бродяжка Чарли, совсем иного мира, нежели тот, что остался за горизонтом Второй мировой войны. «Король в Нью-Йорке» – еще одна мера изменчивой реальности. Перед нами человек-отшельник, который с заоблачных высот, из своего швейцарского далека (двойник Мышкина?) вернулся на землю.
…С этой точки зрения все его фильмы важны и существенны. Особенно если их смотреть кряду.
Если его картины смотреть к ряду, то нетрудно заметить, что каждая из них не вполне автономна от предшествующей и предполагает продолжение. А при более пристальном взгляде понимаешь, что не в том дело, что каждая из них обручена с одним актером. Тут узы другого свойства.
Тут предметом интереса художника стала участь не самого героя, а участь человечности современной цивилизации. Сверхзадача, возможно, и бессознательная, вызвала к жизни сериальный формат, значимость и перспективность которого в полной мере мы можем оценить только сегодня. Хотя природа его имеет глубокие корни и связана она с тем, что известный культуролог Михаил Ямпольский назвал «антропологической практикой» [43].
Кино как антропологическая практика
Ямпольский исходит из того, что
«никакого искусства не существует, а есть просто разные антропологические практики нашего постижения мира или отношения к миру, которое меняется с географией, историей и так далее» [44].
Далее он обращает внимание на то, что до Ренессанса искусство не называлось искусством, и, что
«искусство возникает тогда, когда происходит автономизация каких-то текстов или изображений от иных практик. Так происходит возникновение чего-то самодостаточного, независимого, того, что мы называем искусством» [45]. Помимо самоопределения отдельной сферы художественной культуры, называемой «искусством»
происходит автономизация отдельных явлений культуры, называемых «произведениями искусства». На примере развития мировой киноиндустрии мы можем наблюдать этот процесс на коротком временном промежутке в свернутом виде. Сначала мы видим некую киношную практику, которая ни в коей мере не представляется искусством и не претендует на этот статус. Если и есть в огромном корпусе мелодраматической продукции элемент антропологического исследования, то весьма поверхностного, по большей части спекулятивного и, как правило, сугубо коммерческого. Величие Великого немого – это величие стремительно развивающегося ремесла. Не проходит и двух десятилетий от рождения Синема, как зритель начинает отличать фильмы не только по сюжетам, но и по именам создателей: на первом этапе актеров, на втором – режиссеров. И в немых фильмах Эйзенштейна, Гриффита, Ренуара, Чаплина обнаруживается другой уровень антропологии. В первую очередь потому, что это нечто отдельное от реальности и нечто самодовлеющее – раз, и самоценное – два.
Их фильмы – не суммы. Не суммы поступков, обстоятельств, ситуаций и переживаний.
Их фильмы – произведения поступков, обстоятельств, ситуаций и переживаний.
На экране уже отдельная жизнь, в зеркале которой проступают сущностные закономерности и ценности жизни не сочиненной. Замкнутые художественные структуры произведений наиболее эффективны в объяснении как исторических явлений, так и футурологических предупреждений.
Тут важно оценить последовательность того, как обособляется кинематографическая практика. Сначала киностилистики сбиваются в национальных границах с характерными для них культурными кодами: «Монтажный кинематограф» в СССР, «Немецкий экспрессионизм» (Германия), «Поэтический реализм» (Франция 30-е годы). После войны тенденция к суверенизации национальных кинематографий усиливается. Итальянский неореализм, французская «Новая волна», польская «Киношкола», «Чехословацкое чудо». Советское кино самоопределилось в 60-е годы как «Оттепельное кино».
Понятно, что все эти художественные практики в значительной степени были обусловлены социально-политическими и общественными обстоятельствами. Жизнь в мирное время, как ни странно, усложняется. Но не на поверхности, а там – в глубине. Или – в вышине.
Суверенизация направлений национальных кинематографий сопровождалась заметными всплесками взаимовлияний. В конце концов, интеграционные процессы в Европе привели к размыванию государственных границ, одно из последствий чего явилась эстетическая нивелировка национальных культурных кодов. На этом фоне в Европе наблюдается уже достаточно интенсивное стилистическое обособление художественных миров отдельных европейских мастеров кино.
В 60-х годах стилистическая уникальность ассоциируется уже не столько со страной, сколько с мастером. Великие мастера кино обзавелись собственными мирами: Ренуар, Бюнуэль, Росселини, Феллини, Антониони, Бергман, Тарковский, Вайда, Тати, Куросава… Это отдельные миры со своими законами и стилистиками. Каждый их следующий фильм – это рефлексия по поводу внутреннего устройства своего художественного мира, блуждания по его сложно пересеченному ландшафту, заглядывания в его потаенные норы, по пути натыкаясь на тупики, нарываясь на катастрофы. А потом, в какой-то момент создатели художественных миров, обнаруживают, что в жизни пошло что-то не так: то ли современность негаданно рванула вперед, то ли история кинулась вспять. И тогда Федерико Феллини горько сетует на своего зрителя: «Мой зритель умер» [46]. Это, наверное, потому что автор считает зрителя в кинозале неотъемлемой принадлежностью своего художественного мира, его персонажем. Конечно, зритель и Феллини, и Антониони, и других властителей его дум и чувств, остался живым. Просто он пошел дальше вслед за колесом истории, навстречу новым его поворотам. Сами художники, теша себя иллюзиями об исчерпанности исторического развития, остались памятными вехами культуры на его пути. Подобно тому, как идеологические мантры (расизм, национализм, коммунизм) поникли, раздробились, осыпались после разрушительных двух мировых войн и под впечатлением экономических чудес Западного мира, художественные течения утратили былые масштабы, а с этим и впечатляющую автономность. Искусство занялось рутинной работой: насущной антропологической практикой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: