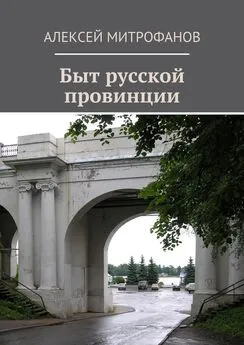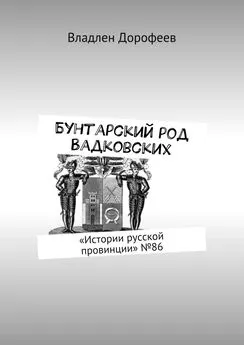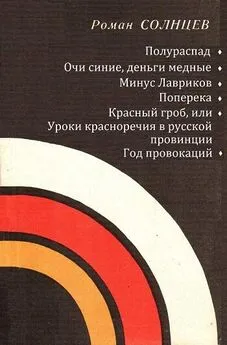Алексей Митрофанов - Быт русской провинции
- Название:Быт русской провинции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449089854
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Быт русской провинции краткое содержание
Быт русской провинции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так сладостно бывает вечером, бродя по улицам пустынным, уйти в миры чужие, облететь мечтою все эти маленькие домики, увидеть весь уют патриархального уклада, мир предрассудков и ограниченного счастья всех этих маленьких людей, ушедших целиком в жизнь своего родного провинциального городка.
И церкви с куполами, усыпанными крупными, яркими звездочками, увенчанные пирамидами, шпицами и вазами, вытянутыми, сплюснутыми, перевитыми, задекорированными гирляндами и лентами, с затейливым узором оконных наличников, карнизов, с бусами кокошников и порталов, с клеймами резного камня, изображающими то зверя лютого, то птицу-неясыть, то льва геральдического, окрашенные пестрыми колерами в шашку, или в лимонный цвет, на котором, как на парчу, положено кружево белых украшений, – полны той особенной сказочной прелести, которая бывает под хрустальным кровом колпака или пресс-бюара, в засушенных цветах весны, давно минувшей… Над старинными стенами свешиваются низко и ласково, покрытые инеем, отяжелевшие ветви деревьев; придавая фантастический вид всему окружающему, возвышаются покрытые шапками снега стройные ели; выглядывают из-за крыш лохматые кедры, или, рисующие на темном небе, как иней на стекле узор из страусовых перьев, березы.
Насупились в конусообразные верхушки башней монастыря, покрытые снегом и охраняющие златоверхие храмы, что за высокими стенами».
Что это? Научный труд или же поэтические экзерсисы? Произведение высоколобых ученых или же беллетристов-романтиков? И далее: «А быт тридцатых-сороковых годов, каким-то чудом сохранившийся до наших дней? Каланча с сонным пожарным, гауптвахта с арестованными офицерами, а полосатые будки часовых и столбы перед постоялыми дворами, – неужели все это, столь пригодное для декорации гоголевской и даже грибоедовской пьесы не чудо, не феерия, а действительность?
А прелесть крепкого аромата бакалейных лавочек, терпкий запах близ «кожевенных линий», или в «табачных рядах», или воркование голубей под сводами «мучных» или «льняных» линий? во всем этом также выражается провинциальная жизнь.
А чугунные решетки, украшенные гирляндами из черных цветов, вырастающие как бы из снега, а иконы, восьмиугольные, круглые, – под сводами гостиных дворов? А этот скрип клеенкой обитых трактирных дверей, из которых валит пар и вкусный запах, а обитые стеклярусом карусели с пегими, рыжими и вороными лошадками, удивленно смотрящими блестящими глазами и, на радость детворе, кружащимися под звуки инструмента из бутылок, до половины налитых водою? А танцы под громыхания духового оркестра в белоколонном зале Дворянского Собрания, где встретить можно еще типы давнишних времен: дам в желтых парчовых нарядах, в платках ярко-узорчатых, с белыми страусовыми перьями в пудреных волосах, или мужчин в костюмах времен очаковских и покорения Крыма».
Воздействие русской провинции непредсказуемо.
А провинциальные города, между тем, становятся сами героями литературы – наряду с томными барышнями и бравыми офицерами.
«Тихий город Мямлин еще спит, приютясь в полукольце леса, – лес – как туча за ним; он обнял город, продвинулся к смирной Оке и отразился в ней, отемнив и бесконечно углубляя светлую воду… Сад раскинулся на горе, через вершины яблонь, слив и груш, в росе, тяжелой как ртуть, мне виден весь город, с его пестрыми церквами, желтой недавно окрашенной тюрьмой и желтым казначейством».
Это – рассказ А. М. Горького «Губин». А город Мямлин – он в действительности Муром. Стоит он в окружении знаменитых муромских лесов и ничего особо страшного нет в этом окружении.
А вот И. Василенко, о Белгороде: «Я хожу по улицам Градобельска и считаю церкви. За три дня насчитал тридцать шесть. А жителей в городе не больше сорока тысяч. Интересно, чем они занимаются? Неужели только тем, что ходят по церквам? Чаще всех тут бросаются в глаза попы и монахи. Ими хоть пруд пруди. И очень много учащихся. В таком маленьком городке есть и мужская гимназия, и две женские, и духовная семинария, и реальное училище, и учительская семинария, и женское епархиальное училище. А возглавляются они старейшим в России учительским институтом. Чтобы стать его воспитанником, я и приехал в этот уездный городок с уютными полутораэтажными домами и огромными раскидистыми тополями по обеим сторонам немощеных улиц…
До вечера я бродил по городу. Прожив здесь четыре месяца, я так и не удосужился осмотреть его весь. Добрел я и до той окраинной улицы, где стоял длинный закопченный сарай. По тяжелому запаху было нетрудно догадаться, что это и был салотопенный завод».
Градобельск – Белгород. Мямлин – Муром. Герои – прототипы. Все как у людей.
Даже если города не укрываются под псевдонимами, они нередко предстают живыми персонажами. Поэт Мариенгоф писал о Нижнем Новгороде: «Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег, разгульная Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередке города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев, писанных по дереву-кипарису. А через дом – пьяные монопольки под зелеными вывесками.
Чего больше? Ох, монополек!
Пусть уж таким и останется в памяти мой родной город, мой Нижний. Пусть!»
А другой поэт, К. А. Доводчиков поднапрягся и выдал стихотворение под названием «Панорама Ярославля»:
Этот город, как плебей,
Пародируя столицы,
Полон чопорных затей.
В нем свои есть львы и львицы,
Есть приюты для детей,
В нем есть клаб, театр, собранье,
Магазины – наказанье
Для расчетливых мужей.
Есть притонов штук десяток,
Полицейский есть причет,
Маскарады есть для Святок,
А для масленой – народ…
Много чего есть на «святой Руси».
Ярче же прочих описал провинциальный город Федор Сологуб: «Плывем на пароходе по Волге, видим – Кострома на берегу. Что за Кострома? Посмотрим. Причалили. Слезли. Стучимся.
– Стук, стук!
– Кто тут?
– Кострома дома?
– Дома.
– Что делает?
– Спит.
Дело было утром. Ну, спит, не спит, сели на извозчика, поехали. Спит Кострома. А у Костромушки на широком брюхе, на самой середке, на каменном пупе, стоит зеленый Сусанин, сам весь медный, сам с усами, на царя Богу молится, очень усердно. Мы туда, сюда, спит Кострома, сладко дремлет на солнышке.
Однако пошарили, нашли ватрушек. Хорошие ватрушки. Ничего, никто и слова не сказал. Видим, – нечего бояться Костромского губернатора, – он не такой, не тронет. Влезли опять на пароход, поехали. Проснулась Кострома, всполошилась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: