Карел Чапек-Ход - Чешские юмористические повести. Первая половина XX века
- Название:Чешские юмористические повести. Первая половина XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1978
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карел Чапек-Ход - Чешские юмористические повести. Первая половина XX века краткое содержание
В книгу вошли произведения известных чешских писателей Я. Гашека, В. Ванчуры, К. Полачека, Э. Басса, Я. Йона, К. М. Чапека-Хода, созданные в первой половине XX века. Ряд повестей уже издавался в переводе на русский язык, некоторые («Дар святого Флориана» К. М. Чапека-Хода, «Гедвика и Людвик» К. Полачека, «Lotos non plus ultra» Я. Йона) публикуются впервые.
Чешские юмористические повести. Первая половина XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Композиция повести не менее причудлива, чем ее стиль и ее персонажи. Произведение делится на множество главок с неожиданными названиями. Некоторые из них явно пародийны. Порой нам вспоминаются названия глав в романах писателей XVI—XVIII веков, порой — оглавление детективных и бульварно-приключенческих романов, а подчас улыбку вызывает нарочитое несоответствие названия главки ее содержанию. В делении действия на микроэпизоды сказалось увлечение Ванчуры кинематографом. Перед нами как бы кадры и титры кинофильма. Однако вся эта мозаичность, кинематографичность скрывает от наших глаз драматургическую конструкцию, отличающуюся классической ясностью и законченностью. «Причуды лета» — своеобразная эпическая комедия. В развитии действия явственно просматриваются пролог, несколько актов и эпилог.
Каков же смысл этой прозаической бурлески, где повседневность выступает в пышном архаическом облачении, о ничтожно-комическом рассказывается с пафосом, а возвышенное постоянно снижается и попадает впросак? Может быть, автор хотел посмеяться над женскими и мужскими слабостями, над односторонними пристрастиями героев? Или просто стремился к созданию комических ситуаций, к чистому юмору? Ведь когда Антонин Дура плавает по бассейну с зажженной сигарой в зубах или когда юная красавица Анна угощает каноника Роха окунем, пойманным его более счастливым соперником, смех не несет никакой социальной нагрузки.
В произведениях Ванчуры всегда присутствуют несколько содержательных планов. Обычно это и современная притча, имеющая общечеловеческое значение, и вмешательство художника в актуальную общественную полемику. Конкретно-исторический подтекст есть и в «Причудах лета». Без расшифровки его мы не можем во всей полноте понять смысл повести.
Что это за «смельчаки», которые в начале июня, когда «мая как не бывало», обретают мирный вид? Какое отношение к героям и содержанию повести имеет разговор одной из «маркитанток лета» и старого господина о том, что базилика, дерзко построенная в нарушение правил, и шляпа, десять сезонов бросавшая вызов обществу, в конце концов «привились», так что теперь «изъяны их — в порядке вещей»? Случайно ли в Кроковых Варах девять колодцев и названы они именами девяти муз (число «девять» вообще проходит через всю повесть)? И случайно ли сказано: «Тут приятели взялись под руки и зашагали в ногу, как хаживали когда-то, пока действовало хорошее правило: — Левой, левой, левой!»? Если учесть, что «Деветсил» порой расшифровывался как «девять муз» и что «Левый марш» Маяковского был переведен на чешский язык еще в 1920 году, если обратить внимание на то, что Антонин Дура сравнивает выступление Анны с манипуляциями «освобожденного» актера («Освобожденный театр», возникший в 1925 году, был секцией «Деветсила»), а сама Анна — урожденная Незвалкова и отец ее «стихи красивые сочинял», то станет ясно: «удивительный кудесник», которого ругает «обомшелая публика и бабы обоего пола», заявился в Кроковы Вары не столько из жизни, сколько из поэзии Витезслава Позвала, и проблематика повести тесно связана с судьбами литературно-художественного авангарда в Чехословакии.
«Как прекрасно быть кудрявым!» — вздыхает пани Катержина в конце повести. В этом вздохе звучит чуть грустная ирония автора и в адрес его остепенившихся персонажей, и в адрес искусства, уносящего человека в мир мечты, свободной фантазии и красоты, а затем, словно акробат с каната, срывающегося в реальную обыденность, обрекая своих почитателей на горькое протрезвление. Ванчура, несомненно, иронизирует здесь над коллегами по «Деветсилу», а в какой-то степени и над самим собой. Интересно, что и Незвал в поэме «Акробат» (1927), вслед за Ванчурой, которому, видимо, не случайно посвящено это произведение, описывает падение акробата, вступившего в состязание с «семилетним безногим ребенком в матроске» — символом человеческого горя. И в то же время Ванчура полемизирует с утилитаристским и вульгарно-социологическим подходом к искусству (главка «Хула на литературу»), говорит о том, что все существующее возникает из игры, что «иногда наступает пора бессмыслицы» и «смех не убавит солидности (не надо только смеяться слишком долго)». Главный же вывод повести — утверждение незыблемости мужской дружбы, верности тем «старым» временам, когда «смельчаки» шагали «левой, левой, левой». Ванчура призывает своих единомышленников, одиноких в окружении мещанского мира (главка «Эпизод окончен»), к взаимопониманию и снисходительности. Повесть «Причуды лета», которую Иван Ольбрахт считал «одной из самых очаровательных книг, когда-либо написанных в Чехии», и ставил рядом с «Бравым солдатом Швейком», раскрывает неисчерпаемое богатство человеческой натуры. Ее возвышенный стиль не только контрастирует с содержанием, но и соответствует ему, ибо герои Ванчуры, так же как герои Рабле, Шекспира, Сервантеса, напоминают нам о великих возможностях человека.
Если герои Ванчуры вопреки своим «конькам» и причудам полнокровные люди, которым не чуждо ничто человеческое, каждый из персонажей повести Карела Полачека (1892—1944) «Гедвика и Людвик» (1931) односторонен и ограничен.
Карел Чапек назвал Полачека писателем-монографистом. Многие из его книг посвящены исследованию определенной жизненной сферы, некоего «мира в себе». Эта методичность, систематичность юмора Полачека объясняется тем, что писатель считал художественную прозу чем-то очень близким науке. Под его исследовательским микроскопом в первую очередь оказывались микробы мещанства.
Чешский прозаик Франтишек Кубка вспоминает: «Полачек — в отличие от Карела Чапека — был настоящим юмористом, то есть человеком грустным. Я ни у кого не видел таких печальных глаз… Разве что у Зощенко» [5] K u b k a F. Na vlastní oči. Praha, 1959, s. 149.
. Сам Полачек всю жизнь мечтал написать по-настоящему серьезное произведение и с удивлением спрашивал: «Что в моих книгах вызывает смех? Ведь смеяться тут не над чем». И вместе с тем он считал, что всякое «добротно сделанное» литературное произведение содержит долю юмора, ибо обязательно раскрывает несоответствие между сущим и должным. Юмор «прочищает зрение», и сама реальность в сопоставлении с идеалом художника выступает как нечто фантастическое, уродливо-смешное, неожиданно парадоксальное. В повести «Гедвика и Людвик» писатель прибегает к нарочитому гротеску, парадоксальному сюжету, чтобы обнаружить комическое в самом обыденном и создать широкую пародийную панораму. Во внешне безыскусном повествовании престарелой барышни Гедвики Шпинаровой, льющемся естественно и непринужденно, как живая устная речь, и в то же время несущем явственный налет архаичности и книжности (ведь героине далеко за восемьдесят и воспитывалась она как читательница на весьма давних литературных образцах), перед нами проходит почти столетие жизни чешского провинциального городка.
Интервал:
Закладка:
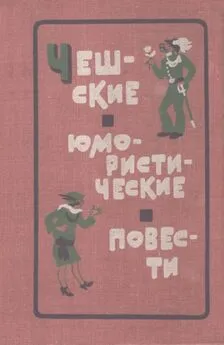


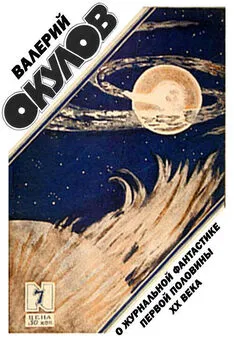

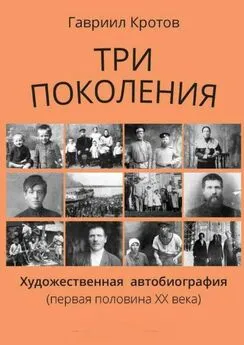
![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины ХХ века. Том 3]](/books/1086208/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus.webp)



