Стивен Фрай - Троя. Величайшее предание в пересказе
- Название:Троя. Величайшее предание в пересказе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фантом БЕЗ ПОДПИСКИ Литагент
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86471-869-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Фрай - Троя. Величайшее предание в пересказе краткое содержание
Троя. Величайшее предание в пересказе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
152
Гефест ударился о горный склон и повредил ногу, из-за чего навсегда охромел, и этой хромотой памятен в веках. См. «Миф», стр. 106.
153
Возможно, вы помните, что меч Пелею подарил сам Зевс. Акаст спрятал его в навозе, когда бросил Пелея погибать от рук разбойников-кентавров. Хирон помог Пелею обнаружить оружие. Позднее Хирон подарил Пелею на свадьбу копье с волшебными свойствами – о них мы вскоре узнаем. Тот меч и то копье (как и Балий с Ксанфом) перешли к Ахиллу.
154
У Гомера Ахилл в отчаянии представляет себе образ крестьянина, пытающегося перейти реку вброд: «Лечь в пучинах реки, как младой свинопас, поглощенный бурным потоком осенним, который хотел перебресть он!» [«Илиада», Песнь двадцать первая, стихи 282–283. – Примеч. перев. ]
155
На этом завершается Гомерова «Илиада».
156
Многие считают, что образ героини «Звездных войн» принцессы Леи вдохновлен царицей Пенфесилеей.
157
Подробнее об амазонках см. в томе «Герои», стр. 111 и 462.
158
Многие великие писатели предпочли сюжетную линию с супружеством Ипполиты и Тесея. В книге «Герои» я выдвигаю предположение, что замуж за него выходит Антиопа, а Ипполиту убивает в припадке ярости Геракл. Тесея и Антиопу (или «амазонку») считают парой Еврипид в «Гипполите» и Сенека в «Федре» (а также Расин в своей «Федре»), и еще, конечно, есть «Герцог» Тесей и Ипполита у Чосера в «Рассказе Рыцаря» [в «Кентерберийских рассказах» – примеч. перев. ] и у Шекспира в пьесе «Сон в летнюю ночь».
159
Квинт Смирнский в своем послегомеровском «Разрушении Трои» перечисляет амазонок: Алкибия, Антандра, Антиброта, Бремуса, Клония, Деримахия, Дериноя, Эвандра, Гармофоя, Гиппофоя, Полемуса и Фермодоса.
160
Существуют археологические и исторические свидетельства, подтверждающие возможность существования верховых воителей, подобных амазонкам, – и, более того, чудесным бойцам вроде кентавров: видится естественным появление легенд и сказок, где этих всадников описывают как единое целое с их животными. И амазонки, и кентавры, по мнению греков, обитали восточнее даже Трои. Теперь-то нам известно, что речь шла о монголах с Дальнего Востока, а позднее – о мадьярах, породивших на Западе образ верхового лучника.
161
«Косоглаз, хромоног», – сообщает нам Гомер. По некоторым источникам, оказался калекой из-за увечий, полученных, когда Менелай сбросил его со скалы за трусость во время Калидонской охоты. Ферсит (это имя вообще-то означает «бесстрашный», «отважный») играет значимую (а в исполнении Саймона Расселла Била в достопамятной постановке Королевской шекспировской труппы – потешную) роль у Шекспира в «Троиле и Крессиде», нисколько не заботясь о том, кто попадет под плеть его злющего хулительного языка. [В пер. Н. Гнедича – Терсит. – Примеч. перев .]
162
Есть исследователи (в том числе Роберт Грейвз), предположившие, что Ферсит обычно изображается уродливым и увечным, потому что осмеливается говорить правду власти… а историю пишут (или заказывают сочинить) те, кто при власти, разумеется.
163
В пьесе у Шекспира как раз Ахилл-то и терпит Ферсита – тот его даже забавляет.
164
«Отродья мерзкого Терситов жалкий труп», как сказано в «Разрушении Трои» у Квинта Смирнского в чарующе архаичном переводе Артура Сэндерза Уэя, бросили в яму.
165
Имя означает «стойкий» и «решительный» – а также «терпеливый», поэтому так нередко говорят применительно к ослам. Префикс «ага» – усиливающий, то есть означает «очень» или «полностью». Приходит на ум, что Агамемнону его имя досталось зря – если учесть его нетерпеливость и эмоциональное непостоянство…
166
Он ужасно состарился, высох и ослаб, но не умер, и Эос наконец сжалилась над ним и превратила в кузнечика (или цикаду, если угодно). См. «Миф», стр. 417.
167
Вот вам двурушник Одиссей во всей своей красе: согласно Гомеру, Ахилл тогда вмешался и не дал двум ценнейшим ахейским воинам порвать друг друга в клочья. Тот поединок объявили ничьей.
168
Квинт Смирнский говорит об этом так – в переводе Артура Сэндерза Уэя:
И вот Аякс, свирепое сердце его
Мýкой пронзенное, в горе безумном металось.
Пена вскипела у губ его; рев звероподобный
Рвался из горла его.
169
Второй формальный поединок – тот, что состоялся между Гектором и Аяксом (первый – незавершенная стычка между Парисом и Менелаем), – закончился церемонным обменом между участниками, как вы помните: Аякс вручил Гектору свой боевой пояс, а Гектор Аяксу – свой меч, которому суждено было стать орудием самоубийства Аякса. Пояс же Гектор носил со дня поединка, и вот им-то Ахилл привязал труп Гектора к своей колеснице и жестоко таскал его в пыли. Эти доблестные знаки внимания стали символами главных ужасов и трагедий той войны. Первый доспех Ахилла – тот самый, в котором сражался Патрокл, – чудесный второй доспех, выкованный Гефестом, боевой пояс Аякса и меч Гектора – все они словно заговорены на беду. История Трои, ясное дело, полнится проклятиями, и эти символы рождают понимание: все, так или иначе относящееся к открытой войне, по самой природе своей прóклято.
170
Мальчика назвали в честь великого щита Аякса. Эврисак вырос и стал владыкой Саламина. Софокл написал о нем пьесу, но она до нас не дошла. Его трагедия «Аякс» же существует – ее время от времени ставят на сцене, переводят и адаптируют.
171
Оба они приходились внуками Эаку, у которого было двое сыновей – Теламон и Пелей, как вы помните. А. Вы. Помните .
172
Если верить историку и географу Страбону, Марк Антоний украл статую Аякса с его могилы и подарил ее Клеопатре. Павсаний же запечатлел встречу с неким мизийцем, сообщившим ему, что, когда могилу смыло, среди сохраненных костей Аякса были его коленные чашечки «размером с диск для юношеского пентатлона».
173
Отсылки к этой версии истории Корифа я обнаруживаю лишь в «Сказании о Трое» у Роджера Лэнслина Грина [1918–1987] и в Книге четвертой поэмы «Елена Троянская» плодовитого фольклориста XIX века Эндрю Лэнга [1844–1912], ставшей, по-видимому, источником для Лэнслина Грина, и – по моей дальнейшей догадке – развитой самим Лэнгом по мотивам более известного повествования. В великолепно названном сборнике поэта I в. н. э. Парфения Никейского «Erotica Pathemata» («О любовных страданиях») объединены два варианта более ранних историков Трои – Кефалона Гергифского (под этим псевдонимом в конце III – начале II в. до н. э. писал Гегесианакс из Александрии-Троады) и Гелланика Лесбосского (V в. до н. э.). Вот как это изложено в «Erotica Pathemata» (перевод Стивена Гэйзли, [1882–1943]): «В союзе Эноны и Александра [другое имя Париса] родился мальчик, названный Корифом. Он пришел в Трою помочь троянцам и там влюбился в Елену. Она же приняла его с величайшим радушием – мальчик был необычайной красы, – но отец его выявил цели Корифа и убил его». Никандр, однако же, утверждает, что Кориф был сыном не от Эноны, а от Елены у Александра, и говорит он вот так:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
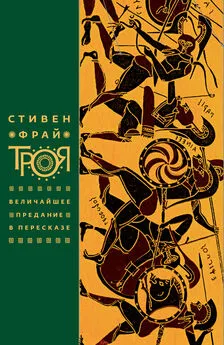
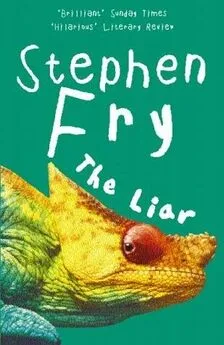
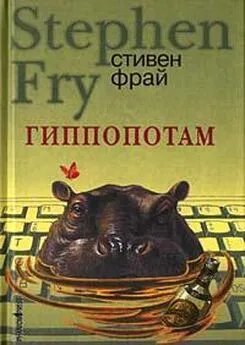
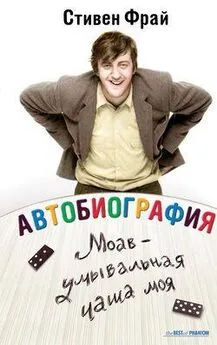
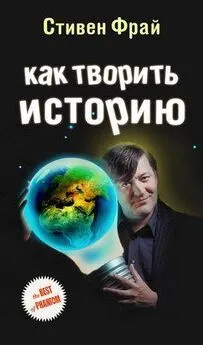
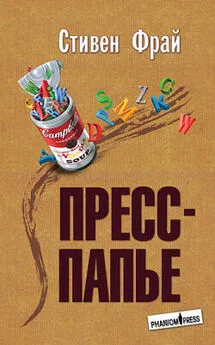
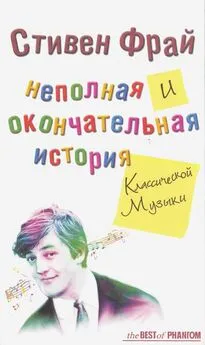
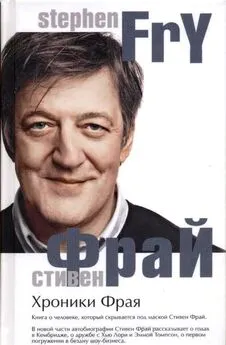
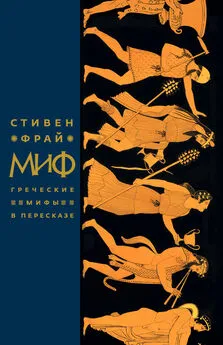
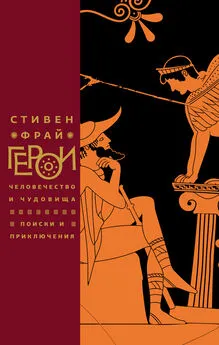
![Стивен Фрай - Лжец [litres]](/books/1087933/stiven-fraj-lzhec-litres.webp)