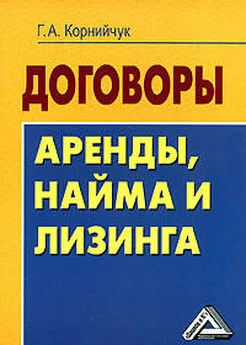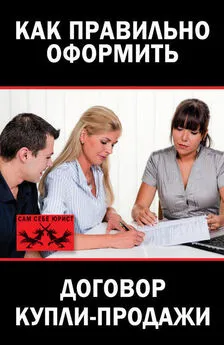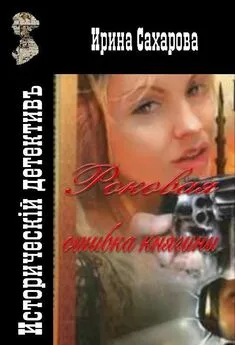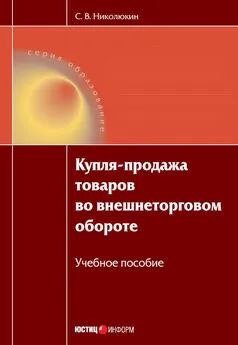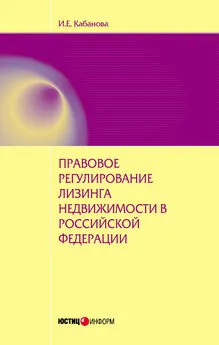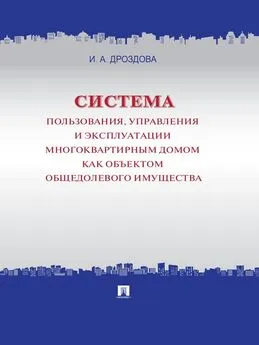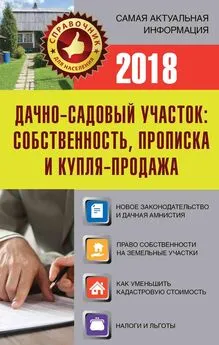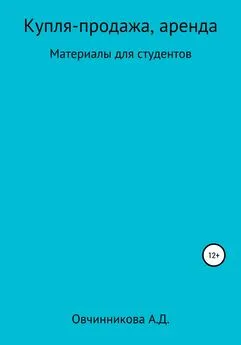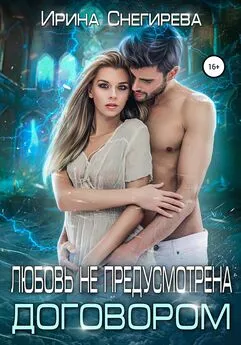Ирина Сахарова - Правоотношения, возникающие из договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга
- Название:Правоотношения, возникающие из договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юстицинформ»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7205-1203-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Сахарова - Правоотношения, возникающие из договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга краткое содержание
Правоотношения, возникающие из договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Отметим, что формальный порядок принятия федеральных законов действительно един как для кодифицированных, так и для любых других федеральных законов. Однако фактически процесс разработки и редактирования такого объемного и структурно сложного нормативного акта как кодекс, играющего основополагающую роль в регулировании определенной сферы общественных отношений, качественно отличается от разработки и редактирования большинства других федеральных законов. Представляется, что признание возможности закрепления в кодифицированном законе его приоритета перед другими федеральными законами, регулирующими определенные общественные отношения, совсем не означает «произвольного определения уровня юридической силы федеральных законов» и уж тем более вряд ли приведет к «разрушению на глубинном уровне стабильности правового регулирования». Думается, что вопрос о юридической силе кодифицированного правового акта является самостоятельным, и его решение однозначно не предопределяется признанием обоснованности включения в кодифицированный акт правил, аналогичных абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ. Правило абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ, на наш взгляд, не отменяет правила “lex specialis derogat generali” и “lex posterior derogat priori”. Вместе с тем, эти доктринальные положения, получившие признание в решениях Конституционного суда РФ и в самом общем плане также представляющие собой правила разрешения коллизий между нормами законов одного вида, не отменяются правилом абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ. Но их применение в силу указания законодателя, выраженного в позитивном праве, корректируется с учетом правила абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ [111](который также можно назвать отражением российской правовой традиции [112]). Его наличие не исключает возможности специального регулирования, равно как и возможности внесения изменений в законодательство. При этом наличие в федеральном законе специальной гражданско-правовой нормы автоматически не означает противоречия этой нормы Гражданскому кодексу РФ. Необходимость внесения изменений и дополнений в любые федеральные законы (в том числе и кодифицированные) возникает постоянно. И это, как известно, обусловлено не только субъективными факторами, т. е. ошибками законодателя, но и объективной невозможностью уже принятых законов во всех случаях адекватно регулировать развивающиеся общественные отношения. И, на наш взгляд, гораздо лучше, если совершенствование законодательства происходит путем изменения или отмены соответствующих норм, а не путем принятия других норм, противоречащих уже действующим, что неизбежно затрудняет правоприменение (что отчетливо видно на примере Закона о лизинге). Довод о невозможности в большинстве случаев определить , является ли норма, содержащаяся в других законах, нормой гражданского права, представляется нам преувеличением. Действительно, иногда это сделать непросто, особенно в отношении вопросов, требующих комплексного регулирования [113]. Однако, на наш взгляд, такие случаи все же оказываются в меньшинстве. Более того, необходимо, по нашему мнению, обратить внимание на то, что определить, какая норма является общей, а какая – специальной, также не всегда просто, а руководство во всех спорных случаях только позднее принятой нормой, как очевидно, не всегда представляет собой самый лучший вариант.
В литературе было высказано мнение о том, что «именно среди цивилистов наиболее устойчива точка зрения о большей юридической силе кодифицированных федеральных законов по отношению к некодифицированным, об особом правовом статусе данного Кодекса в сфере гражданских правоотношений» [114]. Однако, на наш взгляд, если говорить об отраслевых юридических науках, именно дискуссия о юридической силе кодифицированных федеральных законов ведется в большинстве своем среди цивилистов (при этом, как будет показано далее, действительно, можно сказать, что преобладает позиция о приоритете ГК РФ перед другими федеральными законами, содержащими нормы гражданского права). В то время как, например, привилегированное положение Уголовного кодекса РФ, насколько нам известно, не только не подвергается сомнению специалистами по уголовному праву, но и рассматривается как важнейшая гарантия прав и свобод человека. В связи с этим проведем анализ правовых позиций Конституционного суда РФ, изложенных в его решениях, принятых несколькими годами позже тех, которые уже были приведены нами. Целью такого анализа является обоснование нашего мнения о том, что в свете более поздних позиций КС РФ в отношении юридической силы УПК РФ и УК РФ, его более ранняя позиция в отношении юридической силы ГК РФ логически не может быть истолкована как запрещающая законодателю устанавливать обязательный для правоприменительных органов приоритет Гражданского кодекса РФ перед другими федеральными законами, регулирующими отношения, составляющие предмет гражданского права.
Так, в п. 1 резолютивной части Постановления КС РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной думы» [115]суд признал ч. 1 и 2 ст. 7 УПК РФ (устанавливающие приоритет Уголовно-процессуального кодекса РФ перед иными федеральными законами и нормативными правовыми актами) не противоречащими Конституции РФ. Конституционный суд мотивировал свое решение следующим образом. Уголовное судопроизводство представляет собой самостоятельную сферу правового регулирования, а юридической формой уголовно-процессуальных отношений является уголовно-процессуальное законодательство как отдельная отрасль в системе законодательства Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс РФ как систематизированный свод правовых норм призван обеспечить единообразие и согласованность нормативно-правовых установлений и складывающейся на их основе правоприменительной практики. Такие установления, не нарушая прерогатив федерального законодателя вносить изменения и дополнения в действующее уголовно-процессуальное законодательство, в то же время облегчают работу правоприменителя, поскольку законодательство становится обозримым и тем самым в правоприменении существенно снижаются риски искажения аутентичной воли законодателя. Конституционный суд, однако, отметил, что УПК РФ, будучи обычным федеральным законом, не имеет преимущества перед другими федеральными законами с точки зрения определенной непосредственно Конституцией Российской Федерации иерархии нормативных актов, но в то же время пришел к выводу, что, закрепляя требование о приоритете УПК РФ в установлении порядка уголовного судопроизводства, законодатель исходил из особой роли, которую выполняет в правовой системе Российской Федерации кодифицированный нормативный правовой акт, осуществляющий комплексное нормативное регулирование тех или иных отношений. Вместе с тем приоритет УПК РФ перед другими обычными (по выражению КС РФ) федеральными законами не является безусловным, а ограничен рамками специального предмета регулирования. Конституционный Суд РФ и в иных своих решениях подчеркивал необходимость учета особенностей предмета регулирования тех или иных законодательных актов при разрешении возникающих между ними коллизий [116].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: