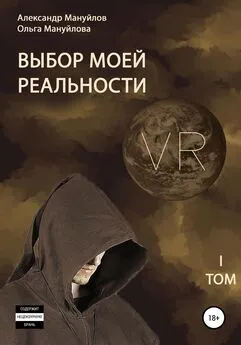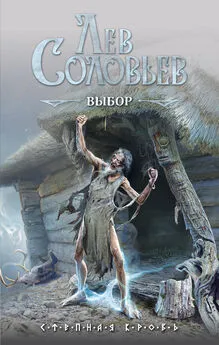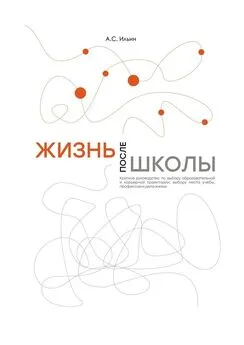Александр Соловьев - Выбор профессии
- Название:Выбор профессии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-5886
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Соловьев - Выбор профессии краткое содержание
Профессия – это больше, чем специальность. Наша книга – своего рода «введение в профессию», а точнее – в мир профессионалов. «Выбор профессии» – своеобразный гид, в котором вместо стран – профессии, а вместо достопримечательностей – люди этих профессий.
Здесь вы найдете информацию о 20 профессиях – от самых массовых и традиционных (учитель, врач, воин) до суперпрестижных (топ-менеджер, адвокат, политик). Все герои – настоящие мастера, знающие свое дело вдоль и поперек, а их профессии востребованы, нужны здесь и сейчас. Эта книга не облегчит вам выбор профессии. Она расскажет о том, что выбор – есть. И в этом ее цель.
Выбор профессии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Людей «из системы» судейское сообщество считает наилучшими кандидатами в судьи; им охотнее всего дают рекомендации председатели судов. Они становятся судьями рано: средний возраст прихода в судейское кресло – 31 год; 57 % надевают мантию до 30 лет; 60 % получали образование заочно. Практически все эти люди – 88 % из них – не имеют за плечами никакого другого опыта работы, кроме судейского. Знающие работу судов изнутри, бюрократическую рутину судопроизводства, эти люди становятся очень удобными судьями: неконфликтными (для председателя суда), преданными интересам корпорации, а главное – они попросту хороши как функционеры: знают, как оформить бумажку, аккуратны, не пропускают сроков. У них мало отмен приговоров, от них мало шуму и пыли, у них, как правило, нет иных амбиций, кроме карьерных, и до совсем недавнего времени не было репутации, за которую стоило бы бояться.
Внутренняя установка у судьи такова, что сотрудники полиции не то чтобы не ошибаются, но они не врут, а обвиняемый будет в любом случае любыми способами уходить от ответственности.
Именно таким образом стала судьей Ольга Боровкова, заработавшая сомнительную славу на противостоянии с оппозиционером Удальцовым. Она дважды выносила решение об аресте оппозиционера по разным поводам – за «сопротивление при задержании» и «самовольное оставление места отбывания административного ареста», когда Удальцов покинул больницу, куда был направлен после голодовки (протестуя против ареста, он объявил голодовку, и на четвертый день состояние его здоровья стало угрожающим).
В первом случае судья не приняла во внимание видеозапись ареста и показания свидетелей, утверждавших, что Удальцов сопротивления не оказывал. Это, конечно, возмутило оппозицию, но, с точки зрения судейского сообщества, вероятно, отнюдь не свидетельствовало о непрофессионализме, особенно на фоне замечания Ольги Егоровой о том, что показаниям полиции априори следует доверять больше, чем показаниям других свидетелей (и уж тем более обвиняемых). К слову, молодые судьи вполне разделяют такой подход: «Полицейские плохо излагают свои мысли и часто пропускают детали», – признает Ольга Сазонова, но утверждает, что «внутренняя установка у судьи такова, что сотрудники полиции не то чтобы не ошибаются, но они не врут, а обвиняемый будет в любом случае любыми способами уходить от ответственности».
Верховный Суд отменил второе решение Боровковой по Удальцову, что уже однозначно говорит о недостаточном качестве судопроизводства в ее исполнении. Для публики же Боровкова стала символом сразу всего худшего, что есть в российском правосудии: сервильности, презрения не к закону даже, а к простым фактам и безжалостной жестокости там, где задействовано что-то хоть сколько-нибудь похожее на «государственные интересы».
Судьи, особенно муниципальные, находятся между молотом системы и наковальней общественного мнения постоянно. «Когда ты работаешь мировым судьей, ты плохая везде: ты плохая для граждан, потому что не можешь вовремя рассмотреть их дело и быстро отписать решение, даже если оно в их пользу; – вспоминает Ольга Сазонова. – Ты плохая для руководства, по той же самой причине и потому, что на тебя приходят анонимные жалобы, которые по закону принимаются к рассмотрению. Ты постоянно видишь херню с уголовными делами, которую не можешь изменить. Ну, и кро ме того, моменты, когда тебе ставится по телефону какая-то задача конкретная».
А есть еще и третий фактор прессинга – объем работы. Нормативное время на рассмотрение гражданского иска – месяц. В рассмотрении у судьи единовременно может находиться до сотни дел, а если «повезет» с участком – так и все 400 (в Москве есть три таких участка; их называют «проклятыми»). Заседания – по два в час (то есть на рассмотрение дела собственно в суде – полчаса). При этом административные дела судья сам себе планировать не может – они поступают в суд с уже назначенной датой (например, дела о нарушениях правил дорожного движения), и судья должен вклинить их куда-то в свое расписание. Работа до поздней ночи – обыденное явление.
И ее никоим образом нельзя назвать спокойной. Не секрет, что накануне начала учебного года (или экзаменов) резко увеличивается число сообщений о заложенных в школах и вузах бомбах. В судах это – ситуация внесезонная: «Это очень часто происходит в Мосгорсуде, и все к этому уже привыкли, – снова вспоминает Ольга Сазонова. – Я когда в 2000 году туда пришла работать и первый раз услышала записанный на пленку голос: “Внимание! Внимание! Сохраняйте спокойствие”, конечно, перепугалась, стала туфли собирать сменные, думаю, сейчас все взорвется. А потом привыкла к этому голосу – он уже 12 лет все тот же».
Привыкание к требованиям системы, к сложившимся принципам ее работы и обеспечивает успех и карьерный рост – за счет поддержки самой системы. По словам Ольги Сазоновой, «когда ты работаешь внутри системы, у тебя есть чувство корпоративной солидарности, ты понимаешь, что тебя выручат, что можно позвонить начальнику ОВД, и он тебя спасет от оппозиционеров и довезет до дома, например, и поэтому ты воспринимаешь эту систему взаимопомощи как норму». Потом возникает «чувство, что надо обязательно оборонять это сообщество», ибо «вокруг – «враги», все обвиняемые – преступники, а ты – за справедливость».
«Ты даже не можешь подумать, чтобы повернуть у себя в голове ситуацию, посмотреть на нее с другой стороны. Там подмажем, тут подтянем, там менты недоработали, тут криво составлен протокол, адвокаты жалуются, но ты должен это обойти и проштамповать обвинительное заключение. Вышестоящая инстанция тебя всегда поддержит».
«Когда ты работаешь внутри системы, у тебя есть чувство корпоративной солидарности… ты воспринимаешь эту систему взаимопомощи как норму. Потом возникает чувство, что надо обязательно оборонять это сообщество, ибо вокруг – «враги», все обвиняемые – преступники, а ты – за справедливость».
Строго говоря, никаких иных представлений у молодого человека, с ранних лет врастающего в профессиональное сообщество, и не может сложиться, ведь иного жизненного опыта у него нет, и появиться ему практически неоткуда. Отсюда – и профессиональный цинизм, характерный для многих профессий, совсем не только для судейской. У журналистов, например, свой профессиональный цинизм, у врачей – свой. Для судьи отправление правосудия – работа, а не поиск справедливости. Тем более что справедливость – понятие такое человеческое и у каждого свое, а правосудие – понятие государственное.
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова восхищена степенью доверия к правоохранительной системе в Англии: «В Лондонском суде… полицейский положил руку на Библию, рассказал – и все, достаточно». При этом подтрунивает над удивлением англичан – те не сразу поверили, что так молодо выглядящая судья может иметь четвертьвековой стаж работы, ведь в Англии на этот пост можно претендовать только после 45 лет. Быть может, такой британский традиционализм и кажется чрезмерным, но у 45-летнего жизненный опыт все же побогаче, чем у 25-летнего, а жизненный опыт, как представляется, все-таки необходим для того, чтобы быть хорошим судьей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
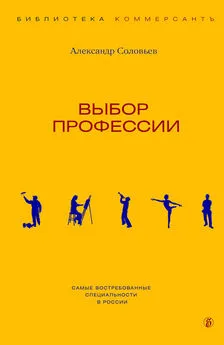

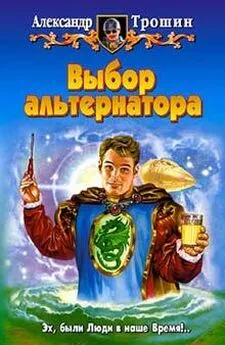
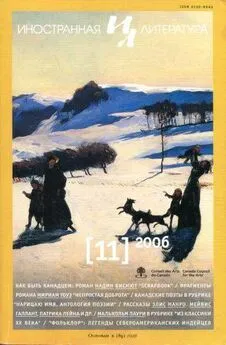
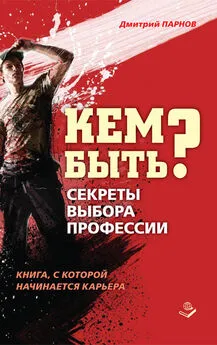
![Александр Шорников - Выбор цели [СИ]](/books/1088133/aleksandr-shornikov-vybor-celi-si.webp)