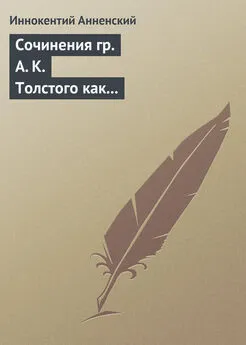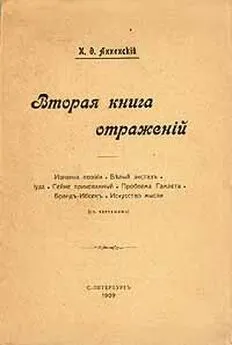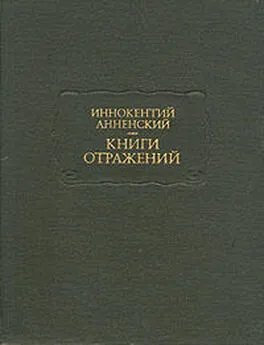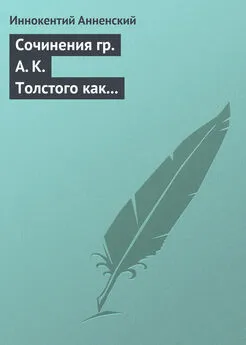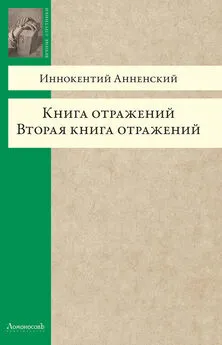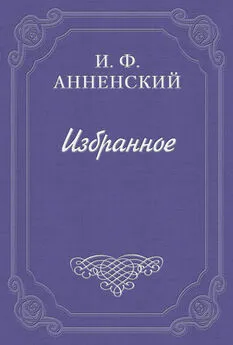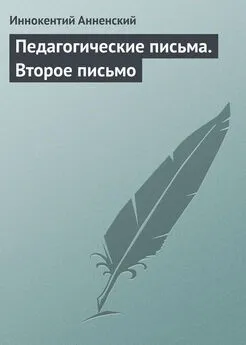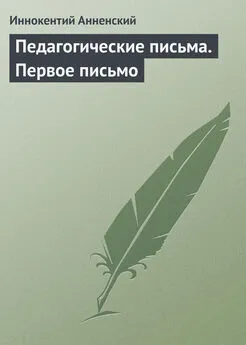Иннокентий Анненский - Сочинения гр. А. К. Толстого как педагогический материал. Часть вторая. Эпические мотивы
- Название:Сочинения гр. А. К. Толстого как педагогический материал. Часть вторая. Эпические мотивы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иннокентий Анненский - Сочинения гр. А. К. Толстого как педагогический материал. Часть вторая. Эпические мотивы краткое содержание
«Лирика обладает одним несомненным преимуществом перед другими родами поэзии: она лучше всего освещает нам личный мир поэта, ту сферу, которую выделяет для него в широком Божьем мире его темперамент, обстановка, симпатии, верования; она показывает степень отзывчивости поэта; т.е. его способности переживать разнородные душевные состояния: она часто открывает нам уголки поэтической деятельности, где живут не оформившиеся еще образы, задатки для определенных фигур эпоса и драмы. В эпосе и драме образы становятся разнообразнее и пестрее, но вместе с тем славятся объективнее, особенно в драме…»
Сочинения гр. А. К. Толстого как педагогический материал. Часть вторая. Эпические мотивы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Насилие и гнет!
Рядом с Дамаскином вспоминается еще один толстовский певец. Слепого старика зовут петь князю и его гостям после лова, но он опоздал приходом и поет совершенно один, поет долго и вдохновенно. Много сказал он в своей песне прекрасного, поучительного, горячо и глубоко прочувствованного. Но даже камни не грянули ему «аминь!» как достопочтенному Бэде в превосходной пьесе Полонского. Только дубрава, тихо качая ветвями, рассказала ему про его ошибку. Но старик не огорчился; он отвечал, что пел не для награды или славы и не для того, чтобы веселить или учить – он пел из глубокого внутреннего побуждения петь.
Охваченный песнью не может молчать,
Он раб ему чуждого духа,
Вожглась ему в грудь вдохновенья печать,
Неволей или волей он должен вещать,
Что слышит подвластное ухо.
Кончает старик мягким, добрым приветом природе, почтившей его вниманием, и не слыхавшим его людям: он просит у Бога счастья и князю, и его боярам, и народу. Высокая душа сказывается в убогом: душа поэта, чуждая и мелочной зависти, и корысти, душа, полная любви, – она-то и роднит этого нищего с блестящим и гениальным певцом Дамаска. Гений поэта не живет в грязной оболочке.
Жалки кажутся рядом с вдохновенными певцами наемные гусляры в пьесе «Курган»; эти наемники льстиво пророчат своему князю бессмертную жизнь в памяти людей, и их слова умирают, когда родятся; забываются даже раньше, чем слава, которую они воспевают. Мы закончим наш обзор эпических мотивов этой малоколоритной, но, глубокопоучительной балладой. Курган с высокой головой стоит в глубокой степи одиноким, ненужным и загадочным сторожем прошлого.
Несмотря на льстивые пророчества гусляров, имя витязя, погребенного под курганом, даже век, в который он жил, даже народ, которым он правил, – все изгладилось из народной памяти. Но это и естественно, и законно. Что забыто? Забыто ли то, что человек оставил будущему: город, обелиск, портик, храм, закон, песни, открытие? Нет, забыто, что он разрушал,Чью кровь проливал он рекою,
Какие он жег города?
Слава по праву достается на долю только создателям – одного, даже недолго жившего Александра Македонского помнят 2000 лет, народные легенды разнесли его имя и подвиги на полмира; а целые народы, со всеми своими радостями, победами, страданиями, с миллионом жизней – все эти гунны, скифы, половцы как в воду канули, будто и не жили никогда; а если теперь их образ и восстановляют, то точно скелет допотопного зверя по скудным материальным остаткам, случайно избежавшим гибели. Для выяснения истинного понятия о славе, как рисуют ее поэты, полезно вместе с «Курганом» прочитать эпилог к пушкинской «Полтаве»: здесь выясняются самые законы народной памяти о выдающихся людях.
Интервал:
Закладка: