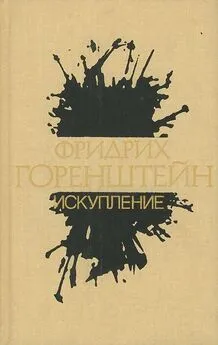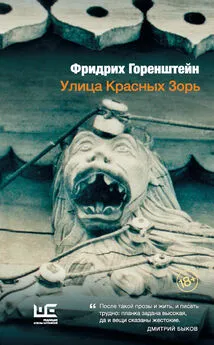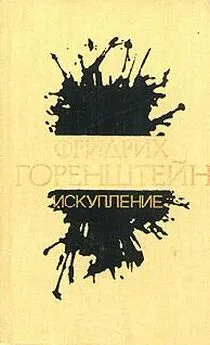Фридрих Горенштейн - Искупление (сборник)
- Название:Искупление (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-02524-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Горенштейн - Искупление (сборник) краткое содержание
Главный интерес Горенштейна – судьба России, русская ментальность, истоки возникновения Российской империи. На этом эпическом фоне важной для писателя была и судьба российского еврейства – «тема России и еврейства в аспекте их взаимного и трагически неосуществимого, в условиях тоталитарного общества, тяготения» (И. В. Кондаков).
Взгляд Горенштейна на природу человека во многом определила его внутренняя полемика с Достоевским. Как отметил писатель однажды в интервью, «в основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство, и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать человека от зла».
Чтение прозы Горенштейна также требует усилий – в ней много наболевшего и подчас трагического, близкого «проклятым вопросам» Достоевского. Но этот труд вознаграждается ощущением ни с чем не сравнимым – прикосновением к творчеству Горенштейна как к подлинной сущности бытия...
Искупление (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Цаль Абрамович прошел мимо меня, даже не повернув своей головы, головы бородатого местечкового мудреца в казачьей кубанке вместо ермолки. Но краем глаза он все-таки по мне скользнул, и этот взгляд выдал его. Я понял, что он узнал меня и прочел мою записку. Несмотря на маскарад, вблизи он выглядел все тем же Цалем Абрамовичем, преподавателем пединститута, рассуждающим об Августе Бебеле и пролетарской литературе в таких выражениях, что был даже когда-то обвинен в троцкизме. Я посмотрел вслед Цалю Абрамовичу, и его спина, которую даже лихой строевой шаг не мог сделать менее сутулой, сказала мне: «Чубинец, ты грабил мою квартиру в сорок первом году вместе с изменником Салтыковым, ты разбил мое зеркало и порвал мои книги». – «Нет, не грабил, не рвал, не разбивал, – ответил я спине, – я пришел только взять свое из ящика вашего стола, как вы разрешили мне, уезжая в эвакуацию». – «Но ты творчески сотрудничал с немецкими оккупантами, и гестапо разрешило твою пьесу к постановке». – «Неправда, у меня еще гноятся губы, рассеченные немецкой нагайкой, когда я пытался помочь советским пленным. Лишь после этого состоялась моя премьера, да и то не на сцене, а в гримерной. В чем же я виноват? В чем мы виноваты: Леонид Павлович, Леля? В том, что не повесились всем городом, всем народом, когда вы оставили нас, отступили к Москве или уехали в Ташкент?» – «А кто три дня назад прятал у себя изменника Салтыкова?» – «Да, прятал, признаю. Но разве преступно дать ночлег больному старику накануне его смерти? Противный старик, спору нет, но ведь он уже не существует, он уже свое отстрадал и отзлобствовал. Нет, товарищ Биск, я ни в чем не виноват». Однако, если в то время человек сам себе начинает доказывать, что он не виновен, можно считать, что он уже приговорен. После той проклятой лекции Биска покой так и не вернулся ко мне, и я не удивился, когда вскоре, примерно через неделю, за мной ночью пришли, когда властный стук в дверь и окрик грубым, простуженным голосом: «Открывай, комендантский патруль», возвестил мне новый этап в моей жизни.
– Простите, – вступил в разговор я, Забродский, – Биск, Биск... По-моему, я его знаю. Пишет о связях фашизма и сионизма. А где он сейчас?
– Где сейчас, не знаю, – ответил Чубинец, – но слышал, будто его самого в конце войны за что-то арестовали.
– Значит, не тот. Ну конечно не тот. Того, я вспомнил, фамилия не Биск вовсе, а Ваншельбойм. Бывший резидент, ставший рецензентом. Тот самый Ваншельбойм, который на заседании секции критики и публицистики крикнул своему коллеге, которому предстояла пересадка в Вене: «Что общего между нами? Между мной, советским человеком Ваншельбоймом, и вами, махровым сионистом Киршенбаумом?!» Совсем не тот, и фамилия другая, и судьба другая, а почему-то подумалось как об одном и том же лице. Может, потому, что лица двух болванов в витрине магазина головных уборов меняются в зависимости от того, что натянет на них власть-заведующий: уважаемую сорокарублевую шляпу или семирублевую рабоче-арестантскую кепку. Лицо меняется, но и головные уборы легко переменить: одного – в загранкомандировку, другого – в арестантский лагерь...
Мы с Чубинцом явно утомились. Вот уж Ракитно позади, позади Березенка. Нам бы поспать, пока есть до рассвета часа три или до Казатина часа полтора. Казатин еще более шумная, чем Фастов, станция, более ярко освещенная, с двумя платформами, киевской и шепетовской. Хотя б до Казатина поспать, потому что после Казатина покой кончится. Через сорок минут после Казатина голоса Бердичева зазвучат, а потом рассвет начнется, и западники полезут в вагон с салом и луком. Восточная Украина почему-то сало больше с чесноком употребляет, а западная с луком. От поляков, что ли, этот лук? Запах чеснока ароматен, хоть и неприличен в обществе, а запах сырого лука – это запах дутого панства или похабного холопства. Наверно, вся дивизия СС «Галичина» воняла сырым луком.
Однако, если отвлечься от отрицательного запаха и отрицательных черт, то надо сказать, что украинец по психологии своей все-таки ближе к поляку, чем к русскому. И уж если не могло быть самостоятельности и личной судьбы, то, может, уж лучше было быть с поляком, чем с русским. Поляк потянул бы украинца в Европу, а русский потянул его в Азию. Поляк вместе с украинцем – это шестьдесят – семьдесят миллионов, и если б миновала пора дикости и такое государство сумело бы войти в девятнадцатый век, кто знает, какое влияние оказало бы оно на историю Европы, а может, и на мировую историю. Ведь существует протестантско-католическая Германия, почему же не могла существовать западно-славянская православно-католическая Украино-Польша? Может быть, такое обширное европейское государство было бы выгодно и России. Может быть, Россия, находясь далеко на востоке, за спиной Украино-Польши сумела бы отсидеться вне зоны духовного и материального германского напора, может, спаслась бы она от своей кровавой судьбы. Петровские реформы взломали и преодолели пространства, отделявшие Россию не только от европейского просвещения, но и от европейских опасностей. Царевич Алексей, сын Петра Великого, был против реформ Петра, но не против европейского просвещения. Однако брать это просвещение он хотел не прямо от немца и голландца, а через Польшу, через Литву, брать просвещение, уже преобразованное славянством и приспособленное для России. Достоевский и ему подобные, правда уже задним умом, тоже выступали против Петровских реформ, но при этом за мировое величие России. Это, однако, абсурд – или Петровские реформы, или имперское величие. Нужно ли оно России – другой вопрос. Царевич Алексей считал не нужным. Но ведь для Достоевского тут вопроса нет – нужно. Без Петровских реформ не было бы полтавской армии, а без полтавской армии не было бы русской Украины.
Ураганом налетел, зашумел встречный товарняк, которому, казалось, конца не будет. Товарные вагоны сменялись цистернами, цистерны – платформами с разными грузами: щебнем, камнем, углем, тракторами. Тьма за окном по-прежнему была густой, устойчивой, но звуки уже не ночные, не приглушенные, а открытые, гулкие, сырые, словно о железнодорожное полотно выколачивали мокрое белье. Колеса стучали не по-ночному: тра-та-та – а по-рассветному: бух, бух-бух-бух... И оборвалось... Мелькнул замыкающий товарный вагон странной конструкции, с окнами как в избе. На тормозной площадке стоял человек в брезентовом плаще с капюшоном, держа в руках фонарь.
«Что за человек? – подумал вдруг Забродский. – Поехать бы с его жизненной историей в обратную сторону, до Киева. Пока истории эти мчатся по параллельным рельсам, они друг другу не опасны, а когда пересекаются, то часто происходит крушение. Вот арестовали Чубинца, потому что он с Биском пересекся, а с кем потом столкнулся Биск? Может быть, с этим, который мелькнул фонарем?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Фридрих Горенштейн - Шампанское с желчью [Авторский сборник]](/books/497158/fridrih-gorenshtejn-shampanskoe-s-zhelchyu-avtorskij.webp)
![Фридрих Горенштейн - Бердичев [сборник]](/books/1064159/fridrih-gorenshtejn-berdichev-sbornik.webp)