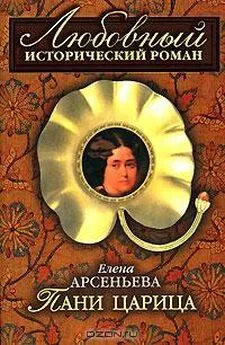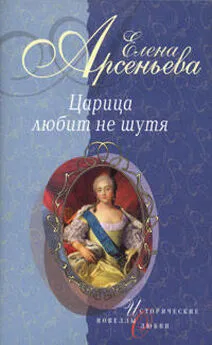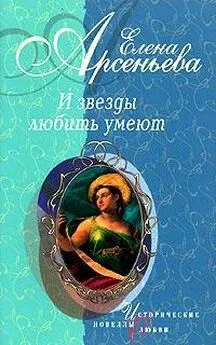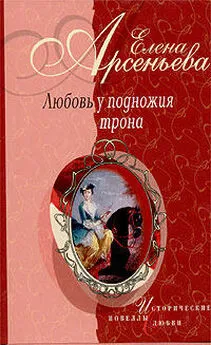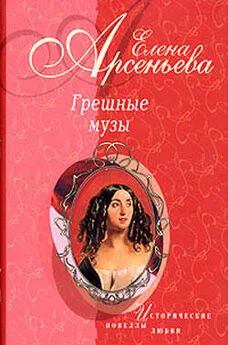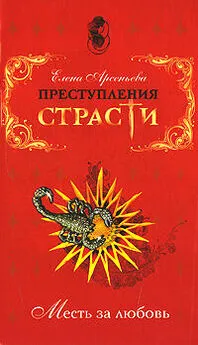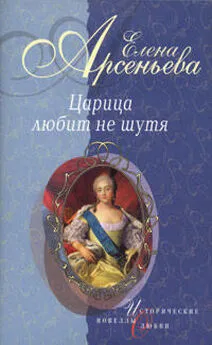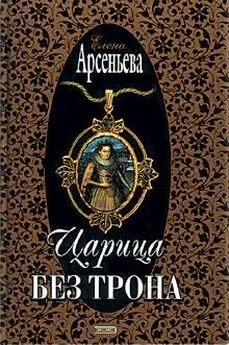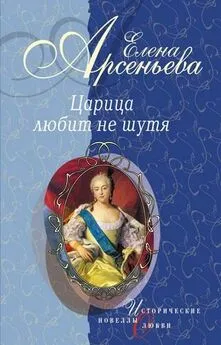Елена Арсеньева - Пани царица
- Название:Пани царица
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-25932-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Арсеньева - Пани царица краткое содержание
Горем и бедой обернулось Марине Мнишек восхождение на русский престол. Ее прекрасный супруг Димитрий, который ради ее прекрасных глаз готов был покорить и бросить к ее ногам огромную страну, убит дикими московитами как злодей и самозванец. Теми самыми, которые только что клялись ему в верности и преданности… Что ждет теперь новую русскую царицу, которая венчалась на царство даже раньше своего мужа? Кто она — бедная гонимая самозванка? Или все-таки царица, которой не хватает лишь престола и… любви?..
Ранее роман «Пани царица» выходил под названием «Престол для прекрасной самозванки».
Пани царица - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вопрос удачи и Меховецкого, и Мнишков, и «озорника» Шаховского, и всех тех, кто в Москве осторожно шепчется о возможном воскресении Димитрия (нет, ну в самом деле, спасся же он единожды в Угличе – отчего бы не спастись вновь в Москве?), лишь в одном: насколько точно будет соответствовать новый самозванец своему образу. Насколько окажется правдоподобен, достоверен, похож… нет, даже не на прежнего Димитрия, сколько на царя вообще. Димитрий первый так легко вызывал к себе доверие именно потому, что был истинным сыном Грозного. Ему не надо было притворяться наследником трона – он был им!
Второму Димитрию в этом смысле придется гораздо сложнее. Тут мало просто сказать: «аз». Надо произнести также «буки», «веди», «глаголь», «добро»… дойти и до фиты.
А ведь очень просто можно дойти только до глаголя… на нем и повиснуть [15] Игра слов: глаголь – название буквы Г, по виду напоминающей виселицу, которая тоже иногда именовалась «глаголь».
!
Филарет оценивающе посмотрел на своего собеседника. По речи слышно, что человек сей не чужд грамоте, более того, знает и латынь. Держится с сознанием собственной правоты – ну еще бы, ведь четверть века прожил в полной уверенности, что час его еще пробьет!
Вот в этом и сила нежданного гостя. Димитрий первый был наследным государем, Димитрий второй уверен , что является им. Разница существенная… а так ли это? Говорят же, вера-де горами двигает.
И тут Филарет обнаружил, что уже с меньшей ненавистью смотрит на пугающего своего посетителя. Он, конечно, негодяй, однако… Федору Никитичу Романову приходилось читать труды древнеримского медика Галена, и он запомнил: одно и то же вещество может быть и целебным, и смертоносным – все дело лишь в том, как его применить. Может статься, Юшка Отрепьев сейчас – змея, уже выпустившая свой яд. Она способна укусить – довольно-таки болезненно, она может здорово напугать, однако она уже не смертельна. Но знает об этом только Филарет… Для Шуйского и его присных возникновение сего человека – внешне похожего на Димитрия, знающего его жизнь как свою, а главное – убежденного в своей стезе, в своей судьбе, – смертельно, жутко, кошмарно, это мука адова при жизни!
Все, чего не хватает Отрепьеву, чтобы ринуться в бой против Шубника, – это подпоры в виде денег, войск и верных людей, которые ничтоже сумняшеся начнут титуловать его государем и отвешивать ему поклоны. Да велика беда, шея не былинка, не переломится…
Стало быть, так. С одной стороны, Димитрию нужно то, что есть у Шаховского, Меховецкого, у самого Филарета: силы, средства, весомость имени. Им всем, в свою очередь, нужен человек, способный сковырнуть Шубника, предварительно крепко попортив ему кровушку.
Так почему бы не соединить усилия?!
Ноябрь 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода
– Крещается раб Божий Николай! – провозвестил батюшка, окуная младенца в купель и тотчас вынимая.
Капли звучно падали с голенького тельца в воду. Мальчонка хватал ротишком воздух, таращился по сторонам бессмысленно-испуганными глазенками, но не орал, ничего, вытерпел обряд. Не заплакал даже, когда крестная мать, Матрена Ильинична, не очень ловко с отвычки (минуло уж двадцать с лишком годков, как нянчила она своих дочек, а внуков Господь покуда не дал) приняла младенца на руки. Правда, сморщился досадливо, выпятил губы, но стоило Ефросинье, высунувшись из-за плеча кумы, тихонько шепнуть:
– Тише, миленок, тише, негоже в Божьем доме шуметь, – как малый тотчас растянул губешки в беззубую улыбку и начал водить своими черными глазками, выискивая Ефросинью. Нашел, улыбнулся еще шире, но тотчас закрыл глаза. Улыбка медленно сползла с его щекастого личика, губки сложились смешным кувшинчиком – малыш уснул.
– Ах ты, мамкин сын! – умилилась Матрена Ильинична. – Ангел Божий! Хорошее имя для него выбрали. По нраву мне, когда имена в честь угодников даются, а не в честь мучеников. Волоки потом всю жизнь на себе все его мучения!
– Воля мужнина была, – тихо ответила Ефросинья, перенимая младенца. – Что отписал мне, то я и исполнила.
– Ну да, ну да, Никита ведь у нас по батюшке Николаевич, да и нынче у нас Никола-холодный, февральский. Ненароком совпало, или нарочно подгадали?
– Нарочно. Никита писал, чтобы в деревне дитя не крестили, велел в Москву как раз на Николу воротиться, чтоб по отцу своему наименовать. Мы и поспешили с младенчиком, – обстоятельно отвечала Ефросинья, то вскидывая глаза на разморенную духотой куму (во храме, по зимнему времени, было необычайно жарко натоплено), то опуская взгляд к лицу спящего ребенка. – Думали, войско к сей поре воротится, ан нет – пришлось без Никиты сына крестить. И то, сколько же можно нехристем годовать, чай, скоро месяц минует, а все Богдашка да Богдашка [16] По старинному обычаю всех некрещеных детей именовали Богдашками, под этим же именем и хоронили, если они умирали до крестин, согласно пословице: «Бог дал, Бог и взял!»
!
– Верно, верно, пора, куда долее годить, нехристей-то Господь куда как охотно прибирает, – закивала кума. – А пропой когда ладить намерена?
– Ну это уж когда муж воротится, – отвела взор Ефросинья. – Без мужика попойку в доме устраивать негоже. Вот опростаем с вами по малой чарочке – и довольно.
Матрена Ильинична добродушно кивнула в сторону кума:
– А старому нальешь ли? Небось он уже с утра столько принял, что вот-вот упадет.
Правда была ее – и нынче с утра, и все дни, предшествующие крестинам, Ефросинья не жалела для старика водки, вина, браги, пива, благо во хмелю он не буйствовал, а напротив – с каждым глотком становился все тише, все молчаливей.
Звали его Кузьма, и это был Никитин дед, да не родной, а двоюродный. У него в Тушине прожила Ефросинья все лето, в его избе родился Николушка. Дед Кузьма был глух как пень, подслеповат и малость придурковат. Добиться от него хоть каких-то рассказок, как жилось им в Тушине, оказалось не по силам даже неутомимой говорунье Матрене Ильиничне.
Оно конечно, разумнее было позвать в кумы какую-нибудь соседку, теперь бабы небось все на Ефросинью разобиделись, однако у Матрены Ильиничны имелось одно неоценимое качество: она уже завтра покидала Москву. Это была старинная подруга Ефросиньиной матери, жена тверского гостя, который на несколько дней приехал в Москву да и прихватил супругу с собой. Муж был целыми днями занят, Матрена побегала по родне да и, соскучившись, решила наудачу заглянуть в Стрелецкую слободу, разыскать Ефросинью, дочку своей покойной подруги Глашеньки. Встреча вышла радостная, Матрена Ильинична была безмерно польщена тем, что сделается крестной матерью Ефросиньина первенца, и без конца молола языком, выражая свой восторг. Поудивлявшись тому, как жизнь сводит и разводит людей, Матрена Ильинична перепорхнула к единственному предмету, который ее интересовал: к собственной жизни. Она сама, ее муж, ее дочери, удачно пристроенные за добрых, работящих, удачливых людей, но еще не подарившие старикам внуков, даром что были замужем одна год, другая два, а старшая – три года…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: