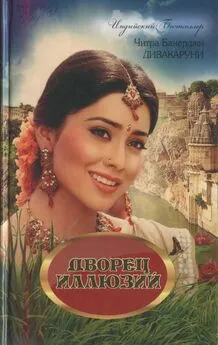Калонджи Равен ушел. И показалось, что магазин стал слишком просторным. Тишина - будто звон в ушах. Как старый телефон, подумала я и удивилась такой мысли. Вот и сейчас, как и вообще в последнее время, я понимаю, что мой мозг вбирает в себя чьи-то впечатления, не имеющие ничего общего с моим собственным опытом. Оставляют ли их те, кто побывал в одном пространстве со мной? Его ли это воспоминания стали моими? Я брожу среди полок, стирая пыль, хотя все и так уже чисто, но мне надо чем-то занять свои руки. Чего мне хочется - так это касаться всего, чего касался он. Я с жадностью впитываю то немногое, что есть. Слабый запах мыла от его кожи. Тепло от последнего длительного прикосновения. Так, в конце концов, я подхожу к обрывку газеты, который он оставил разложенным на прилавке. Я кладу на него руки и закрываю глаза, жду, когда появится картина, показывающая, где он сейчас: едет ли по ночной автостраде, может быть, с открытыми окнами, барабанит пальцами в такт музыке по радио, вдыхает запах невидимого океана, специй в волосах. Но я ничего не вижу. Так что спустя какое-то время ничего не остается, как снова открыть глаза и взять этот листочек, чтобы аккуратно убрать на дно ящика, где хранятся старые газеты. В этот момент я и увидела заголовок: НЕГОДЯИ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ. А под ним фотография двух белых тинейджеров, скалящих зубы в торжествующей улыбке. Даже расплывчатость фотографии не может скрыть их нахального вида. И в ту же секунду меня охватило настойчивое желание, инстинктивное, вышедшее откуда-то из глубин сознания, где залегли разные страхи. Тило, узнай, чему они так радуются. Тило, давай! Но вместо этого я сворачиваю бумагу слегка дрожащими пальцами. Я никогда не читала газет, даже индийских, которые приходят в магазин еженедельно. А хотелось? Да, конечно. Я, Тило, чье любопытство и так уже много раз подталкивало меня к тому, чтобы выходить за рамки, предписанные мудростью. Иногда я подношу свежую газету к лицу. Запах чего-то вроде горящего металла поднимается от крошечных черных буковок. Я отстраняюсь. Не много ли нарушенных правил? Вот как учила Мудрейшая: - События внешнего мира не должны волновать Принцессу. Стоит вам забить голову чем-то посторонним, как истинное знание теряется, как крупицы золота в песке. Настройте себя на то главное, для чего вы пришли - поиск лекарства для людей. - Но, Мудрейшая, не полезно ли будет узнать, что творится во внешнем мире, чтобы понять, почему эта некая жизнь, отданная мне на попечение, стала темой газетной статьи? Ее вздох немного раздражен, но не гневен: - Дитя, содержание газеты - шире, чем то, что выхватывает твой взгляд или мой. Углубись в себя, чтобы узнать то, что тебе надо знать. Слушай голоса специй - они назовут нужное имя. - Да, Мама. Но сегодня я бы спросила так: - Мама, не было ли с тобой такого, что все мысли плещутся вокруг, как соленые волны океана, и только один призывный голос - его - громок, словно крик чайки, а остальное кажется тусклым и далеким, как сигналы подводной лодки. Мама, что же мне делать? Все определенности моей жизни размываются, словно береговая насыпь во время шторма, оставляя лишь песчаные комья. Моя голова так отяжелела, что я невольно опускаю ее на прилавок, но там этот кусок газеты все еще... Видение захлестнуло меня резко, как ударом плети по глазам. Молодой мужчина в постели, трубки тянутся от его носа, от рук. Белые бинты на белой больничной подушке. Только выделяются пятнами незакрытые участки кожи - и она темная, как моя. Индийская кожа. Только бледно-голубые сигналы ритмично вздрагивают на экране. Все остальное в палате бездвижно. Но в голове человека... Тило... Однако я уже втянута. Пройдя сквозь оглушительные пласты боли, я оказываюсь у истоков той истории, которая завершилась прочитанным мною заголовком в газете. В его воспоминании опускается вечер. Бледное солнце скрывается за деревьями, в центральном парке темнеет, людей практически нет, только несколько запоздалых служащих сгрудились у автобусной остановки, с двумя мыслями в голове: «Домой» и «Ужинать». Он опускает красный навес с округлыми наезжающими друг на друга желтыми буквами: У МОХАНА: ИНДИЙСКАЯ ЕДА. Сегодня он припозднился, но это был удачный день: почти все, что приготовила Вэнна, продано, и столько людей похвалили еду, некоторые приводили друзей. Может быть, пора взять помощника и поставить еще один фургончик в другом конце города рядом с новыми офисными зданиями. Наверняка и Вэнна сможет найти приятельницу, которая бы помогала ей с готовкой... Тут он услышал шаги, шорох опавших листьев, сминаемых ботинками, звук, как будто давят стекло. Почему он такой громкий? Когда он оборачивается, два парня подошли уже совсем близко. От них исходит нечистый запах, как от затхлого чеснока. Он думает, как все же даже по запаху отличаются американцы от индийцев - даже от офисных, обливающихся одеколонами и дезодорантами. Но вдруг он понимает, что это запах его собственного пота - признак внезапного страха. Молодые люди острижены почти наголо. Под коротким ежиком волос просвечивает кость черепа, белого, как мерцание в их глазах. Они выглядят не старше, чем на 19 - почти еще подростки. Их обтягивающие камуфляжные майки вызывают неуютное чувство. - Извините, уже закрыто, - объявляет он и решительно протирает верх фургончика бумажным полотенцем, отбрасывает камешки, которыми закрепил колеса. Будет ли это невежливо, если он уже пойдет, когда они еще здесь стоят? Он попробовал немного двинуть тележку. Парни быстрым движением преградили ему путь. - С чего ты вообразил, что нам нужна эта чертова дрянь? - начал один. Другой слегка наклонился. Как бы ненароком, даже почти изящно, опрокинул аккуратную стопочку бумажных тарелок. Индиец автоматически нагнулся, чтобы поднять их, в голове - сразу две мысли: У них такие мутные глаза - как грязная лужа. И: Надо сматываться. Тупой носок ботинка заехал в подмышку его выставленной вперед руки - толчок отдался горячим, как расплавленное железо, всплеском боли в боку, и сквозь него он услышал, как плевок: - Ублюдочные индийцы, оставались бы лучше в своей проклятой стране. Но боль не так сильна, как он опасался, не настолько сильна, чтобы он не смог подобрать камень и швырнуть в того, который в это время толкал фургончик - тот начал с шумом заваливаться набок, и кабабы и самса, которые Вэнна так любовно скручивала и начиняла, посыпались в грязь. Он с удовольствием услышал «чпок» попадания, увидел, как парень подался от удара назад, увидел до смешного удивленное выражение на его лице. Индийцу стало хорошо, несмотря на то, что было больно дышать, и маленькая пронзительная мысль: сломаны ребра? - всплыла на миг в его сознании. (Он не узнает, что позже адвокат, демонстрируя суду синяк от камня у одного из молодых людей, заявит, что все это затеял индиец, а его клиенты только оборонялись.) На минуту он поверил, что сможет ускользнуть, может быть, добежать до автобусной остановки, спасительного бледного света фонаря, до горстки людей (разве они не видят, что происходит, разве не слышат?), стоящих на остановке. Но тут второй прыгнул на него. Даже теперь, когда индиец не может толком вспомнить, что произошло (голова дернулась от сокрушительного удара кулаком, одетым в металл), ощущение боли по-прежнему явственно. Боль как непрекращающийся фон всего того, что было потом. Так много видов боли: опаляющая, как огонь, жалящая, как иглы, бьющая, как молот. Впрочем, нет. В конечном итоге все сливается просто в боль, как она есть. (Поганый урод, ублюдок, кусок дерьма, сейчас мы тебя проучим.) Он думает, что зовет на помощь, только получается на его родном языке: бачао, бачао! Ему показалось, что красная татуировка, которую он увидел на плече одного, изображала тот же самый знак свастики, что обычно рисуют на стенах домов в индийских деревнях на удачу. Но, конечно, этого не могло быть (удар по голове, такой сильный, что все его мысли разбились в желтые звездочки), просто это кровавая пелена в глазах, игра покалеченных нервов. В больничной палате так тихо, боль мирно накатывает и откатывает волнами. К ней он почти уже привык. Только подумал: хорошо бы Вэнна была рядом, так приятно было бы держать ее руку, в то время как на улице небо уже становится чернильно-фиолетовым, как в тот вечер; но ее отправили домой, чтобы она немного отдохнула. «Только не волнуйся, - сказали врачи. - Не будешь волноваться - скорее выздоровеешь. Мы обо всем позаботимся, а ты постарайся отдохнуть». Но что поделать, если множество вопросов вертятся в голове, не дают покоя: смогу ли я опять ходить, чем теперь зарабатывать, правый глаз - будет ли он видеть. Вэнна, такая молодая и хорошенькая, с хромым мужем, покрытым шрамами. И снова, и снова: эти два харамис, нашла ли их полиция, бросила ли гнить за решеткой. Пройдут месяцы, и, когда, сидя у себя дома, он услышит, что их оправдали и выпустили, он будет кричать высоким, стонущим, непрекращающимся животным воплем, будет громить костылями, неистово и с силой, все подряд. Тарелки, мебель, свадебные фотографии в рамочках на стене. Все к черту, к черту, к черту, не слыша, как упрашивает его Вэнна перестать, отбросит ее от себя. Разбитое оконное стекло издает мелодичный звон, магнитофон, на который он копил столько месяцев, мнется так легко под его ударом. Тогда рыдающая Вэнна побежит к соседям, позовет Рамчаран и его брата. Остынь, бхайя, успокойся. Но он бросится к ним, будет хватать их за рубашки, издавать нечеловеческие вопли, и кажется, что они исходят не только из горла, но из его глаз - левый вспухший, с красными жилками, а на месте правого теперь - темный сморщенный провал. Пока, наконец, соседи не сгребут его в охапку, не положат силой на кровать и не привяжут несколькими сари его жены. Тогда он перестанет кричать. Не произнесет ни слова. Ни потом, ни во все последующие недели, ни в самолете обратно домой в Индию, куда посадили его с женой соседи, собрав на билет, потому что в этой стране им больше нечего было делать. О, Мохан, чье тело и дух сломлены Америкой, я вынырнула из твоей истории совершенно разбитая, обнаружила, что сама сползла уже на холодный пол магазина. Все мои конечности ноют, как после долгой болезни, мое сари взмокло от холодного пота, а в моем сердце непонятно, где кончается твоя боль и начинается моя. Ведь твоя история - история всех тех, кого я полюбила в этой стране и за кого беспокоюсь. Когда я наконец с трудом поднимаюсь, то пробираюсь, пошатываясь, к ящику с газетами. Я должна все узнать. Да, все они здесь. Ворох шелестящих страниц, уводящих в глубь месяцев, лет, я медленно разворачиваю их. Человек, который пришел и видит, что окна его бакалейной лавочки разбиты вдребезги булыжниками, подбирает один, чтобы прочесть привязанную к нему злобную записку. Детишки оплакивают свою отравленную собаку, выбежавшую из надежного укрытия их загородного дома. Женщина идет по тротуару, а с плеч ее внезапно срывают шаль, и мальчишки с гиканьем и смехом уносятся прочь в своей машине. Мужчина глядит на свой обуглившийся мотель, сгоревший со всеми сбережениями, а от него поднимается дым, закручивающийся в иероглиф, который можно читать как арсон. А я знаю, что есть и другие истории - и их бесчисленное множество, не сосчитать, - они никем не описаны нигде не напечатаны, они просто колеблются, горькие и темные, как смог, в воздухе Америки. Сегодня вечером я снова буду резать семена калонджи для всех тех, кто пострадал в Америке. Для всех - и особенно Харона, беспокойство о котором беспрестанно гложет меня, а когда я произношу его имя, чувствую, что сердце готово разорваться. Я запру дверь и не сомкну глаз всю ночь, чтобы следить в полумраке, как поднимается и опускается ножик, ровно и четко, как вдох и выдох. Чтобы, когда он завтра придет (завтра ведь вторник), протянуть ему пакет и сказать: «Да хранит тебя Аллах, в этой жизни и всегда». В наказание себе в этот раз во время работы я не позволю себе думать о Равене, я, Тило, и так постоянно во всем себе потакаю. Вместо этого всю ночь напролет я буду читать очистительные молитвы за увечных, за каждую потерянную руку или ногу, за потерянный дар речи. За каждое замолкшее сердце. Сегодня день тянется медленно, каждое движение, как будто пробиваешься сквозь толщу воды, дается с трудом. Свет кажется мутно-зеленым, как будто еле просачивается откуда-то издалека. В этой мути лениво проплывают между полок посетители, затем подходят и вяло опираются локтями на прилавок. Их вопросы - пузырьки, которые лопаются, едва доходя до моих ушей. Мои конечности еле движутся, как будто обволакиваемые скользкими водорослями, что мерно покачиваются в ритме со своим подводным адажио, слышного только им. Только внутри все живет и бьется еще более неистово, еще более беспомощно, чем обычно. Практически вся жизнь Принцессы - это ожидание, бездействие. Пусть так думает кто угодно. Только не я - мне нужны ответы сразу на все вопросы, мне нужно получить инициативу немедленно, выстрелом инъекции в вену. Когда-то давно Мудрейшая изрекла: - Сила - это слабость. Подумайте над этим, Принцессы. Она часто изрекала подобные мудрости: - Чем больше счастье - тем страшнее потеря. - Если смотреть на солнце - темнеет в глазах. Что-то еще, что я уже позабыла. Она отводила утро на то, чтобы мы обдумали смысл ее слов. Мои сестры-принцессы взбирались на крутые гранитные склоны в поисках укромного уголка. Некоторые сидели под баньяном или залезали в пещеру. Там, в тишине, они сосредотачивали все свое внимание на том, чтобы проникнуть в смысл сказанного. Но мне лень было разгадывать загадки, и я проводила все это время, играя в море, пытаясь поймать переливчатую рыбу. Если я и успокаивалась ненадолго и замирала, вглядываясь в мерцающую линию горизонта, так только потому, что надеялась разглядеть там моих морских змеев. В полдень Мудрейшая спрашивала нас: - Итак, Принцессы, вы что-нибудь поняли? Я всегда первой трясла головой, говоря «нет». - Тило, ты даже и не пыталась. - Но, Мама, - возражала я без тени смущения, - другие пытались и все равно ничего не поняли. - Ах, дитя. Но нетерпеливо ожидающая, когда нам откроют свойства и силу следующей специи, я мало обращала внимания на разочарованность в ее голосе. Сегодня, Мама, я наконец прозрела. Смутно, в этом воздухе, в котором пахнет копотью и смолой, я начала понимать. Сила - это слабость. Но тут зашел Квеси и спас меня от моих мыслей. Какое удовольствие наблюдать за Квеси, когда он де лает покупки, решила я. Он все делает очень точно, ни одного лишнего телодвижения. Легкий сгиб локтя, чтобы достать пакет, коробку. Мышцы спины расправляются, потом снова сжимаются, когда он наклоняется поднять мешок; пальцы, просеивающие чечевичные зерна, с четкой целью: проверить, попадаются ли поврежденные или мягкие среди других - жестких и чистых. Не торопясь, но и не задерживаясь во времени, его тело движется спокойно и осознанно. Мне ясно, какой бы из него вышел прекрасный учитель, хорошо знающий цену боли. В голове у меня, как листочек, разворачивается идея. Квеси кладет покупки на прилавок. Сегодня он берет цельную фасоль мунг, зеленую, как мох. Пластинку сушеного тамаринда. Кокос, который, как я себе воображаю, он разобьет на две половинки ребром ладони - его рука вихрем прочертит полукруг в воздухе его кухни. - Хочешь сделать фасолевый суп с кокосом? Смело! Он кивает. На лице его появляется полуулыбка - этот человек не будет улыбаться, если ему и в самом деле не хочется улыбнуться - и ничего не отвечает. Все хорошее последнее время заставляет меня вспомнить о Равене. Хотя под кипящей во мне радостью скрывается страх: когда я увижу его снова и увижу ли вообще? Ни в чем нельзя быть уверенной. Мне, прочно осевшей в своем магазине, остается только ждать и надеяться. - Это для моей леди, - говорит Квеси, - иногда мне хочется приготовить что-нибудь новое и необычное для нее. Считаешь, это слишком сложно? - Да нет, - отвечаю я, - только убедись, что ты достаточно вымочил фасоль, и добавляй тамаринд в самом конце. Как это здорово звучит: что-то новое и необычное. Хотелось бы и мне привнести эту идею в свою жизнь. Пробивая покупки, я шепчу напутственное слово на удачу над фасолью, напоминаю ему, чтобы он бросил самую чуточку сахара: - Тогда он будет и сладкий, и соленый, чуть кислый и острый - все вкусы любви, не так ли? Вокруг его глаз собрались веселые согласные морщинки. Если бы всех, кто приходит ко мне, я так же легко могла делать счастливыми. Тило, не обманывай себя. Он и так уже был счастливым, когда пришел, а что касается тех, кто действительно нуждается в счастье, - не очень-то похоже, что ты справляешься, не так ли? Я сказала: - Помнишь, ты хотел повесить здесь свое объявление насчет школы айкидо. Я тут подумала... - Да? - Не такая уж это бессмысленная идея. Никогда не знаешь заранее, кто может зайти в магазин, кого это может заинтересовать. У тебя есть сейчас с собой - может, в машине? Я помогла ему повесить его плакат, строгий и изысканный, в черных и золотых тонах, прямо рядом с дверью, так чтобы всякий входящий в магазин не мог его не заметить. В его волосах несколько седых волосков, они как серебряные спиральки. - Говори им, что я добрый, но строгий. В школе Квеси все по-честному. - Строгость - это как раз то, что надо, - сказала я. А про себя добавила: «Но ты и мягкий к тому же. Ты прошел суровую школу улицы, все ее соблазны. Ты слышал сладкую песню смерти, ту, что она особенно любит петь молодым. Может, тебе удастся отвратить их от нее, и ты поможешь им увидеть, как прекрасен солнечный свет, изгиб крыльев в полете, блеск капель дождя в волосах того, кого любишь». Помахав ему на прощание, я мысленно послала зов в кривые переулки, заброшенные склады, береговые диско-клубы, которые уже начинают пульсировать в пламенных красках вечера. Пусть приходят те, кому это может помочь. Но вместо них появляется дедушка Гиты: он толкает дверь, отчаянным жестом ставит на прилавок фотографию в оловянной рамке, которую я дала ему. - Диди. - Да? - у него такой голос, что я уже боюсь услышать, что он скажет. - Ничего не получилось из того, что ты посоветовала. Как ты сказала, я постарался осторожно подготовить почву: во время обеда я заметил, как тихо в доме, когда в нем одни взрослые. Раму промолчал. Тогда я прямо обратился к нему: мол, не слишком ли мы резки, в конце концов, она у нас одна, наша плоть и кровь. Но он все равно ничего не сказал. Может быть, позвонить ей разочек, предложил я, может быть, Шила могла бы попробовать. Вот тут у меня есть ее номер, узнал от знакомых. «Нет», - отрезал он тоном, как камень на сердце. А когда я принялся уговаривать его: почему бы и нет, послушай, в конце концов, взрослые должны уметь прощать молодых, - то он только оттолкнул тарелку и встал из-за стола. - Ты сказал, что она живет у подруги, а не у Хуана? - Сказал. На следующий вечер я вложил ему в руку бумажку с ее номером телефона и попросил: «Ради меня, Раму, прекращай ты эту войну. Девочка ведет себя тактично, не делает ничего предосудительного, чтобы тебе не в чем было ее винить. Почему не позвать ее обратно домой?» Он взглянул на меня ледяным взглядом. Выговорил: «Мы давали ей все, что она хотела. Мы просили только об одном, и она этим пренебрегла». Я продолжал: «Я много думал, в конце концов, ну и что, если она выйдет за этого мексиканского юношу, а что такого, времена меняются, вот и у других людей дети так поступили. Взять хоть Джаянту, который женился на той медсестре, а дочь Митры - ты только посмотри, какие у нее хорошенькие светленькие малыши». Он заметил: «Папа, как-то ты странно запел, разве это не ты все время вздыхал и рвал на себе волосы с причитаниями: "Ох, она опорочит имя предков". Кто тебе насоветовал дурного?» Я отвечаю: «А что, ты полагаешь, я вовсе не могу думать своим умом? Мудрый человек - тот, кто умеет признавать свои ошибки». Но его лицо непроницаемо, как кирпичная стена. «Довольно, говорит он, - я тебя выслушал. Но когда она ушла из этого дома, хлопнув дверью, - она ушла и из моей жизни». Всю ночь после этого разговора я не мог спать. Я видел, что легко ранить человека, но гораздо труднее вытащить шип обиды из его сердца. Лучше мне вообще было не совать нос в разборки между отцом и дочерью. Ночью я встал с кровати и сошел вниз. Я оставил фотографию на боковом столике, за которым он всегда утром сидит, пьет чай и читает газету. Я подумал, может быть, когда он посмотрит на нее, когда никого не будет рядом, он вспомнит те времена, когда она была маленькой, вспомнит все, что для нее делал. Может быть, так ему будет легче снять с себя маску уязвленной мужской гордости, стать просто отцом. Но когда позже я вошел, после того как он уже уехал на работу, то увидел, что фотография лежит лицом вниз на кафеле. И вот, посмотри! Он указал трясущимся пальцем. С трепетом я взглянула и увидела трещину, серебристую и прямую, как пущенное копье, разделяющую фотографию напополам, отделяющую Гиту от ее Хуана. Я удаляюсь во внутреннюю комнату, где провожу ладонью по полкам со специями силы, ожидая какого-нибудь знака. Но специи безмолвствуют, и мне остается положиться только на сумятицу в моих женских мозгах. Тило, что делать? Минуты падают к моим ногам, безжизненные и ледяные. Никакого ответа. Через стенку я слышу, как дедушка Гиты дает советы покупателям. В его голос вернулось немного прежней уверенности: - Я вам говорю, от чана даль образуются газы, лучше вместо нее брать тур. - Что значит, ваш муж отказывается есть? Варите до смягчения, вмешайте туда побольше жареного лука и листочек дхания - и он пальчики оближет и еще попросит. «Маска, - размышляю я, - нежелание признать ошибку. Наверное, он прав. В отчаянной ситуации приходится прибегать к хитрости». Я обыскиваю полки, пока не обнаруживаю нечто, плотно завернутое в кору дерева, и рядом щипчики с серебряными кончиками. Крайне осторожно я разворачиваю сверток, стараясь не коснуться его содержимого. И смотрю, как оно оживает, кантак, растение с шипами - маленькими, как волосок, иголочками, в которых содержится яд. Щипчиками я выдираю три волоска и кладу их на точильный камень. Я отмеряю нужное количество топленого масла и меда для смягчения жжения, толку их вместе, заливаю в маленькую бутылочку. Когда я снова вхожу, дедушка Гиты стоит прямо, по-военному, у прилавка, барабанит пальцами по стеклу. - Ох, диди, ты долго. Нет-нет, я не к тому, что я против, ни капельки не утомился, я бы даже сказал, наоборот. Мне просто кажется, это хороший знак - значит, ты нашла для нас как раз то, что нужно. - Ты сказал, что все сделаешь ради Гиты, чтобы вернуть ее в семью. Ты уверен? Он кивнул. - Тогда смотри: это добавь себе в рис во время обеда и ешь его, медленно пережевывая. Это обожжет тебе горло глубоко внутри и через некоторое время вызовет спазмы, может быть, на несколько дней. Но на один час твой язык станет «золотым». - Как это? - спрашивает дедушка Гиты, но в его глазах уже заискрилась надежда, смешанная со страхом, я вижу, он помнит старые сказки. - Что бы ты ни сказал в этот час - люди тебе поверят. Что бы ты ни попросил - они сделают. И тогда... И я сказала ему, как дальше следует поступить. Провожая его до двери, я напутствовала: - Используй эту возможность аккуратно. У тебя она одна. И учти - боли будут сильными. Он распрямил плечи, поднял голову. И я увидела, что дедушка Гиты - человек маленького роста, что он всегда был таким, несмотря на свои громогласные речи. Но сегодня в его глазах появилось величие. - Самые горькие муки буду счастлив принять, - сказал он скромно и мягко закрыл за собой дверь. Я подождала, пока все посетители не ушли, пока мошки не слетелись на свет к двери и я не услышала, как их тельца с глухим стуком ударяются о раскаленное стекло лампочки. Пока луна, словно игрушечная, не повисла в моем окне, прямо посередине, будто на невидимой ниточке, и шум часа пик не был поглощен жуткой ночной тишиной, и уже прошло много времени с часа закрытия. И тогда я уже не могла больше прятаться от страха, который все это время лежал холодным комочком в самой глубине сердца: Харон не придет. Ни сейчас. И, может быть, уже никогда. Как теперь я могу что-то исправить? Как спасти его от этого мрака, протянувшего к нему свои алчные руки? Ответ явился с такой быстротой и такой однозначный, что это удивило меня и ясно показало, что я уже не та Тило, что покинула остров. Надо идти к нему. Да, еще раз выйти из магазина, в Америку. Но как же Мудрейшая? Внутренний голос знает мои слабые места. Или ты так и будешь сидеть здесь сложа руки и ждать, когда случится непоправимое, - надавил он. - Неужели ты думаешь, что Мудрейшая на твоем месте смогла бы и захотела бы поступить иначе? Я вижу ее лицо: глубокие бороздки пересекают лоб, уголки рта и когда она смеется, и когда сердится. Глаза порой темные и спокойные, порой искрятся иронией. Одновременно доброй и едкой. «Глаза, которые, когда она в сильном гневе, могут прожечь твою кожу», - говорили старшие ученицы. Я не могу утверждать с уверенностью, что она бы этого хотела, но точно знаю, как бы она поступила. Так, как должна поступить и я. Я еще немного подумала, прежде чем окончательно решилась на свой план, и это решение оказалось мучительным, как будто мясо отрывали от костей. Если бы вы меня спросили, почему я пошла на это, я смогла бы ответить только одно. Я, державшая руки Харона в своих, слышавшая, как неистово в них бьется надежда, - не могу позволить ночи накинуть на него свою чернильную сеть. Я должна попробовать хотя бы что-то предпринять. Это протест, это сила сострадания? Может, кто-то знает лучше, но для меня они всегда шли бок о бок: их кровоточивые края так проникают друг в друга, что они становятся одного цвета. Но теперь передо мной еще одна трудность - как мне найти Харона. Адреса у меня нет, а когда я послала зов, он вернулся бумерангом, врезавшись в мое сознание с такой силой, словно я со всех сторон окружена глухой каменной стеной. В моей голове зашумело от сотрясения и от вопроса, который я не могу оттолкнуть: ну что, Тило, твоя сила покидает тебя? Однако постепенно из шума выплыло слово: телефон! Перед глазами встал образ, и я, хотя не видела ни одного за всю свою жизнь, уже представляла, что это такое: платный телефон-автомат, заключенный в тесную прозрачную кабинку, прямоугольную коробку, слабо светящуюся в мелькании уличных огней. Стальной шнур, свивающийся и блестящий, словно длинное пластинчатое тело какой-то доисторической рептилии с жесткой черной луковичной головой. Чья это память? Я не знаю. Но зато знаю, какую монетку взять, чтобы опустить в узкую прорезь на аппарате. Я разыскиваю мою пластиковую сумку и вынимаю оттуда листочек с номером (так как я должна позвонить также Гите). Я ускользаю от пристального взгляда специй и запираю за собой дверь. (Но почему меня не провожают взгляды, полные упрека, почему дверь не упрямится, открываемая моими руками?) И я уже не удивляюсь тому, что ноги сами несут меня без заминки по всем зигзагам и поворотам переулков, ведущих меня к телефонной будке. Сначала я делаю легкий звонок. Гите, по тому номеру, что она дала мне в тот день, исполненная надежды, в той черной сверкающей башне. И когда я улавливаю в трубке звук ее голоса, тонкий и металлический, я знаю, что это значит. Знаю, что нужно дождаться гудка и тогда сказать ей внятно, четко, чтобы она пришла в магазин, одна, послезавтра, к семи, в тот вечерний час, когда солнце и луна льют свой смешанный свет на наши мечты и все кажется возможным. Теперь очередь Харона. Но у меня нет ни номера, ни даже малейшего представления, где он живет. Когда-то я бы могла раскрыть это без труда. Но сегодня, когда я начала петь заклинание поиска, я все время запиналась и наконец запуталась окончательно. Это я, Тило, о которой Мудрейшая отзывалась, что, должно быть, попугай, птица памяти, поселилась у меня во рту. Слишком поздно, но теперь я начинаю осознавать, как дорого я плачу за каждый шаг, пройденный по земле Америки. Внутри меня надрывается голос: что еще потеряно? Но сейчас нет времени переживать и плакать об этом. Я должна взять толстую в металлической оправе книгу, что привязана к стене будки, и пролистать ее, шепча молитвы. Но здесь его нет. Будка полна несбывшихся желаний, бесчисленных потерянных надежд всех тех, кто поднимал трубку, пытаясь дозваться до кого-то через сотню миль гудящего провода. Я прислоняюсь головой к стене. Я бы заплакала, если бы надеялась, что слезы могут помочь. Тило, твоя магия ослабла только из-за твоего собственного своеволия, и тебе некого больше винить, кроме себя. Нет времени искать виноватых, Я ощущаю, как бесконтрольно падают минуты, оглушая сжимающееся сердце. Придется использовать то, что есть: твой неустойчивый смертный ум, твою несовершенную память. Боль твоего сердца. Я внимательно вспоминаю первый вечер, когда пришел Харон, вот он пересказывает истории своих друзей, которым я помогла. Я крепко зажмуриваю глаза, пока не начинаю явственно ощущать запах порошка сандалового дерева на его ладони. Чувствую его едва возмужалые губы, целующие мои руки. О, как больно вспоминать его лицо, видеть, как оно лучится доверием. Харон на подмостках, составленных из иллюзий, под прожектором, который вот-вот погаснет. Из боли наконец всплывает имя: Наджиб Моктар. Я хватаюсь за него, как утопающий за соломинку. Я надеюсь, это не плод моей фантазии, порожденной отчаянием. Но вот же оно в телефонной книге, выписано черными буковками, крошечными, как скелетики муравьев, вдавленных в страницу, но вполне различимыми. Я проглатываю вопросы, скопившиеся на языке: что если это не тот Наджиб, что если он не знает, где живет Харон, что если он не скажет, что если, что если, что если... - и набираю номер. Гудки, гудки, пульсация гудков, отдающихся во мне эхом, и, когда я уже перестала надеяться, женский голос: - Алло, - произнесенное с индийским акцентом, слово повисает в воздухе, неуверенное, вопросительное. - Я ищу Харона. Вы не знаете, как мне его найти? Лишь договорив до конца, я осознаю, что все сказала не так. Я почувствовала, как - будто электрический разряд по проводу - разом ожили все ее подозрения, все ее страхи. По делам иммиграции? Кредиторы? Старые враги, следующие за ним по пятам через океан? Ее пальцы судорожно сжимают трубку, готовые ее бросить. - Я друг, - быстро добавляю я. Это ее не убедило, что понятно по ее отрывочным фразам: - Я не знаю никаких Харонов-маронов. Здесь нет никого с таким именем. - Подождите, не вешайте трубку. Я из индийского магазина, вы его знаете, Магазин Специй, рядом со сгоревшим отелем на улице Эсперанца. Я как-то давно помогла вашему мужу. Она молча слушает, задержав дыхание, не зная, верить или нет. - Теперь мне нужна ваша помощь. Я должна кое-что передать Харону, чтобы защитить его от... - я ищу какое-нибудь непонятное слово, которого она подсознательно боится по сказкам детства, - от Дыхания джина. - От Дыхания джина, - прошептала она. Да, она знает: это черный ледяной вихрь, который стирает с лица земли тебя и само воспоминание о тебе. - Да. Вот почему я прошу помочь мне его найти. Она немного подумала. Я слышу, как в голове у нее проносятся предостерегающие слова мужа: «Женщина, только открой свой рот, чтобы выболтать чего лишнего, ты пожалеешь, что на свет родилась». - Пожалуйста, я ничего дурного ему не сделаю. Мы обе ждем. Минута между нами как натянутая стальная струна. Затем она говорит: - Ладно. Телефона у него нет, но я расскажу, как добраться до его дома и как его там найти. Она перечисляет названия улиц, парков, которые я быстро записываю на обороте той маленькой квадратной бумажки, где напечатан рабочий телефон Гиты. Окрестные школы, бензоколонки, автостоянки, полицейские будки. Сначала сесть на этот автобус, потом на этот. Здесь повернуть направо, потом налево и еще раз налево, пройти массажный салон и площадку, на которой куча поломанных машин, подняться по шатким ступенькам на самый верхний этаж. Застать его с утра можно, самое позднее, в восемь. Он уходит из дома после утреннего намаза, а на закате заходит на десять минут для вечернего намаза. И снова - за руль такси, иногда на всю ночь, потому что в это время дают самые большие чаевые. - Примите искреннюю благодарность, - говорю я. Приду прямо завтра же утром, рано-рано, до открытия магазина. Шагая домой в тумане, я избегала дурных мыслей и опасений, время от времени смотрела на луну, белую, как гладкая блестящая кость. Представляла, что скажу Харону: слова извинения и любви и предостережения от ночных ужасов - оборотной стороны иммигрантской мечты. Да, он будет возражать, я знаю. Он будет ходить взад и вперед, громко топая, сердито воздевать руки, но в конце концов скажет: «О'кей, леди-джан, только чтобы сделать вам приятное, я поступлю, как вы говорите». Я уже улыбаюсь этой мысли, в то время как наклоняюсь отпереть дверь в магазин. И вдруг вижу - белеющий, словно краешек сари вдовы или аскета, маленький прямоугольничек, зажатый в дверной щели, как будто кто-то слишком поспешно закрыл за собой дверь. У меня перехватило дыхание. Мудрейшая? Я чуть не кричу. Но потом вижу, что это всего лишь записка. Я разворачиваю ее и, когда руки перестают трястись, наконец могу прочесть то, что написано в ней большими круглыми буквами: «Я пришел в надежде тебя увидеть, но тебя не было. Я не знал, выходишь ли ты куда-нибудь из магазина, но теперь, зная, что выходишь, я уже не так боюсь спросить. Не хочешь ли ты поехать со мной завтра на побережье, чтобы я смог показать тебе свои любимые места? Я заеду рано, чтобы забрать тебя, и к вечеру привезу обратно. Пожалуйста, скажи да». Мой Равен, подумала я и, как всякая влюбленная женщина, приложила к щеке листок со строками, написанными его рукой. Да, прошептала я, да. Завтра будет для нас радостный день. Я уже вдыхаю бодрящий соленый воздух, который так долго воображала себе, чувствую под ботинками неровности прибережных холмов. Но другие мысли заставляют меня опомниться. Как насчет неодобрительных и любопытных взоров, что будут провожать нашу пару - моего симпатичного Американца и смуглую старушенцию с дряблой кожей. И (глупая типично женская мысль) мне нечего надеть! А Харон? - жестко напоминает голос. Я прячу листочек с описанием дороги в маленькую кожаную сумочку, которую беру из витрины с подарками. Я не брошу его, - отвечаю я. Если где-то и вкрадывается сомнение, я не удостаиваю его ни секундой внимания. Разве собственное удовольствие может заставить меня пренебречь своим долгом? Первым делом попрошу завтра Равена отвезти меня к нему.
Ним Весь вечер я не могу успокоиться. Меряю шагами магазин вдоль и поперек, мучаясь мыслью: что может помочь мне выглядеть лучше? Не красивой, нет, это невозможно, но хотя бы не такой старой, чтобы это не так бросалось в глаза. Тило, с каких это пор тебя волнует чужое мнение? Я волнуюсь не за себя. Это его я хочу избавить от насмешек толпы. В одной чаше я смешиваю кипяченое молоко и порошок из листьев дерева ним, убивающих всякую хворь. Смазываю раствором шею и скулы, кожу под глазами. В волосы я втираю вымоченную мякоть пулпа, собирая свои седины в пучок. Я тру свою единственную американскую выходную одежду в раковине мылом Санлайт, с искусственным запахом. Истекает ночь. Минуты капают, как вода с мокрой одежды. Ним сушит и натягивает кожу. Голова зудит. Волосы колосьями тычутся мне в лицо. Однако после того как я все это сделала, на моем лице - все та же смятая кожа, на моих плечах те же пакли волос, жесткие и серые, как джутовые нити, которые вплетают в дерюгу. О, Принцесса, что ты воображала? Голос специй как звонкие капли, сухой смех пляшет надо мной, в моем огорчении. Если ты хочешь настоящего изменения, то следует использовать нас по-другому, призвав всю нашу силу. Ты знаешь, как. Специи, как вы можете так говорить? Я не должна использовать свои чары для себя самой. Для себя или для него - где для тебя кончается одно и начинается другое. У них такой тон, будто они пожимают плечами, считая, что все это очевидно. Для меня это не так, и я с испугом думаю: почему они это говорят, ведь они должны знать гораздо лучше меня, что правильно, а что нет. Из внутренней комнаты послышалось пение: приди, Тило, возьми нашу силу, мы с радостью отдадим ее той, что так верно служила нам. Корень лотоса и абхрак, амлаки и самое главное - макарадваи, король специй. Мы ждем твоих приказаний. Используй нас для радости, для любви, для красоты, ибо мы созданы, чтобы это дарить. Пение - как легкое покалывание по всему телу, влекущее меня. Приди, Тило, приди. Моя голова заполняется образами: та Тило, какой я могла бы стать, лицо Равена, когда он меня увидит, наши тела, прильнувшие друг к другу, сплелись в экстазе. Я начала приближаться к внутренней комнате. Песня гремит, каждый слог пронизывает иглами все мое существо. Моя рука почти толкает дверь, ладонь пульсирует на деревянной поверхности, которая кажется мягкой, словно вода. Вселенная рассыпается на частички и собирается в новые формы. Но - вспышкой молнии - я вдруг осознаю, что это ловушка. Стоит мне нарушить этот самый священный запрет - и я обрекаю себя на отзыв. О специи, все эти годы вы были моим единственным смыслом жизни, не наказывайте меня таким искушением. Вы по-прежнему высоко вознесены в моем сердце. Не убивайте меня, не свергайте в пропасть, где я буду ненавидеть и вас, и себя. Они замолчали. И затем: пусть так. Мы подождем. Но мы знаем, ты все равно придешь на наш зов. Коль скоро ты услышала нашу песню, уже позволила увлечь себя ритмом желаний, что глубоко коренятся в человеческой природе, однажды ты не устоишь. О специи, только и могла сказать я, бессильно опускаясь на жесткий пол, где так и промучилась без сна всю эту ночь. Мой голос устал от уверений, в которых неразрешенность. Разве я не могу любить и вас, и его? Почему я должна выбирать? Ответа не было. В окне утро как разломанный на половинки апельсин, мягкий и сочный. Но тем глубже обозначены борозды на моей коже, тем яснее видны переплетения вен. Я стою в своем коричневом наряде, печальная, как старые листья, и почти желаю, чтобы Равен не пришел. Но он появляется, и снова выражение удовольствия в его глазах, как будто под его взглядом рассеивается моя оболочка и он видит то, что за ней. Он берет мою руку, и на моей удивленной щеке - прикосновение его губ, одновременно жестких и нежных. - Ты поедешь? Я не был уверен. Я всю ночь гадал и не мог уснуть. - Я тоже, - улыбнулась я. Все тело и сердце охвачены единым радостным биением. Равен, ты не знаешь, кто я такая, - и никогда не узнаешь, как дорого мне обойдется эта экскурсия и с какой готовностью я заплачу эту цену. Наверное, это и есть любовь. - Посмотри, - сказал он, разворачивая сверток, - я тебе кое-что принес. Оно струится по прилавку, из тонкого, как паутинка, полупрозрачного шелка, сверкающее, как роса. Я беру его в руки, оно длинное, спускается до самого пола, и белое, как ранний рассвет. Самое прекрасное платье, которое я когда-либо видела. Я положила его обратно. Мудрейшая, которая предупреждала нас, наблюдая с грустью, как наши тела старятся в пламени огня Шампати, могла ли ты предвидеть такое? От сожалений все переворачивается у меня внутри. - Я не могу надеть его, - бросила я. - Почему? - Оно слишком модное. Это для молодой женщины. - Нет, - возразил он, - для красивой женщины. А ты и есть такая женщина, - и провел ребром ладони по моей скуле. Специи пристально наблюдают, мысли их скрыты. Подстраиваются под каждый мой трепетный вздох. - Как ты можешь говорить это, Равен? - я чуть не плачу. Сдерживая гнев, я тяну его к окну, к беспощадному свету. Голос внутри меня умоляет: не надо. Но нет. Если мне суждено потерять его - пусть это случится сейчас, когда коварная стрела любви не проникла безнадежно глубоко в мое сердце. - Ты разве не видишь? - кричу я. - Я уродина. Старая уродина. Это платье на мне - просто смешно. И мы с тобой вместе - это нелепо. - Тихо, - ответил он, - тихо. - И его руки обнимают меня, его губы на моих волосах как утешение. Мое лицо уткнулось ему в грудь, в мягкую ткань его белой рубашки, пахнущей свежестью ветра. Через нее ощущается тепло его кожи, гладкой, как шелковое дерево. Как мне описать это чувство вам, тем, кого обнимало столько мужчин, что вы уже и забыли, когда это произошло впервые. Но меня никто никогда не обнимал. Ни мать, ни отец. Ни сестры-принцессы. И даже Мудрейшая если и обнимала, то не так, сердце к сердцу, так что ты слышишь его биение. Я Тило, ребенок, который не плакал, и женщина, которая не должна любить. Я улыбнулась сквозь слезы в глазах, в то время как запах его кожи объял меня, теплая зыбь его дыхания коснулась моих ресниц. Мое тело обмякло от желания, чтобы меня обнимали так вечно, меня, никогда даже не помышлявшую о том, что будет нуждаться в защите мужских рук. Его большие пальцы мягко поглаживают мои плечи. - Тило, милая Тило. Даже мое имя звучит по-другому в его устах: гласные короче и отрывистее, согласные более четкие. Мой Американец, во всем ты даешь мне новую форму. - Надень платье, - настаивает он. Нежно прикрывает мне губы своей рукой, отвергая мои попытки протеста. - Это тело - я знаю, это не настоящая ты. Так бы и замереть моим губам за твердым выгибом его пальцев, ощущая прохладный платиновый ободок кольца, линии на его ладони, на которых начертано его будущее и мое, если я смогу прочесть. Но я отстраняюсь. Я должна спросить: - Откуда ты знаешь? Ты же говорил раньше, что нелегко распознать истинную сущность человека. Он улыбается: - Может быть, мы способны видеть сущность друг друга лучше, чем свою собственную, - он вложил платье в мои руки, легонько подтолкнул к внутренней комнате. - Но... - Дорогая моя недоверчивая упрямица. Я тебе все расскажу. Все расскажу сегодня. Но для этого я отвезу тебя в подходящее место - туда, где туман и воздух переливаются в океан. Где легче быть откровенным, легче, наверное, прощать. И мы отправимся туда, как только ты будешь готова. Мой Американец ведет машину, она длинная и узкая, рубинового цвета, у нее такая гладкая сверкающая поверхность, что даже ветер словно стекает с нее. Внутри пахнет гарденией и жасмином, все дышит роскошью и очарованием, всем, что оценила бы женщина, и это вызывает во мне ревнивые мысли. Мое тело утопает в мягком сиденье, как внутри ладони, сложенной чашечкой (сколько еще женщин держала эта ладонь), и, откидываясь назад, я вижу сквозь прозрачную крышу проплывающие над нами облака, похожие на сочувственные улыбки. Тило, не забывай, что ты не имеешь права на этого человека, на его прошлое или его настоящее. Но во мне не держатся ни сомнения, ни гнев, ни печаль. Мое платье облегает меня, как лепестки белого лотоса, по лицу скользит теплый солнечный луч, как позволение. Машина движется плавно, как какое-нибудь животное джунглей, так же бесшумно и стремительно. Циферблат на береговой башне показывает полвосьмого. Подходящее время, чтобы заехать к Харону. - О'кей, - говорит Равен, - где находится это место, в которое ты хочешь сначала заехать? Большинство названий улиц я запомнила и называю их ему по памяти. Эллис и Вентура, и одна из них называется Малькольм-Икс-Лейн. Машина скользит по переулкам, где мусор валяется прямо на асфальте, и женщины и мужчины со свалявшимися волосами глазеют на нас из дверных проемов нежилых домов, где, видимо, они провели ночь. Вокруг них рядком, как оборонная полоса, стоят пластиковые сумки, в которых заключается вся их жизнь. - Это точно то место? - Да, - но затем я засомневалась. - Подожди-ка, - сказала я, - у меня здесь записано, в моей сумке Но листочек исчез. Я вытащила пакет с калонджи, перевернула и потрясла сумку. Только одинокая пушинка выпорхнула из нее, как насмешка. - Но я знаю, что положила ее сюда, - слова срываются с губ глухим надтреснутым звуком. - Посмотри еще раз. Куда она могла деться. Вдруг меня кольнула мысль, так резко и пронзительно, что я согнулась и закрыла глаза руками. Специи, это вы... - Может быть, забыла в магазине, - предположил Равен, - если хочешь, поехали обратно - посмотрим? Я затрясла головой. Лицемерные специи, вот почему вы вели себя так доброжелательно: чтобы усыпить мою бдительность и затем обрушить на меня наказание, когда я меньше всего этого ожидаю. - Эй, что-то ты очень расстроилась. Это важно? - От этого зависит жизнь человека. - Дай-ка я посмотрю, - он остановил машину, склонился к моим ногам, приподнял коврик. Внимательно все осмотрел. Казалось, прошло очень много времени. Слишком. Я хотела уже сказать, что не надо, это бесполезно, но у меня не было сил говорить. - Это оно? Мой листочек, скомканный, с ободранными краями, но текст можно прочесть. Специи, что за жестокую игру вы ведете, играете со мной, как кошка с мышкой. - Интересно, как она туда попала? - сказал Равен. Я оставила свои предположения при себе и прочитала ему, куда надо ехать. Я вжала пальцы в приборную доску, как будто от этого машина поедет быстрее. Равен взглянул на меня и вдавил педаль акселератора одним легким движением. Машина понеслась по улочке, беря повороты с мягким низким рычанием, как будто она тоже чувствовала, как пульсирует в моих руках и ногах - быстрее, быстрее. Мы доехали до места быстрее, чем я смела надеяться. Я выпрыгнула, оставив за собой качающуюся дверцу, и взобралась по темным грязным ступенькам на самый верх. Я стучала в дверь квартиры, звала его по имени, стучала и стучала, пока ладони не заболели. Вдруг раздался звук сзади. Я обернулась так быстро, что закружилась голова. Это щелкнула, приоткрываясь, дверь в квартиру напротив: два черных горящих глаза, мягкий женский голос с акцентом: - Wоh admi, он ушел пять-шесть минут назад. Тило, если бы ты не убила время своей болтовней, возней с этим глупым платьем... Я опустилась на разбитую верхнюю ступеньку, схватившись за перила, чтобы удержаться. Женщина показалась из двери, обеспокоенная: - Вы в порядке? Вам принести воды? - Нет, пожалуйста, идите, я посижу тут немного одна, - ответила я, отворачиваясь от нее и погружаясь в свои кровавые предчувствия, стенания раздирают изнутри мои барабанные перепонки, закрытые веки. Ах, Харон, Харон, Харон. Время тяжело волочится мимо меня. Я просидела там не знаю, как долго. И вдруг он берет меня за руки, желая поднять. - Тило, сейчас ты не можешь ничего сделать. Послушай, мы заедем сюда на обратном пути, когда только скажешь. Я посмотрела на его лицо. Маленькая честная складка между бровей. Его глаза кажутся темнее, как будто за это время научились всему тому, чего до сих пор сторонились: чувствовать боль других, желать каждым своим вдохом и выдохом (ведь этого уже достаточно, чтобы изменить нас навсегда), каждым своим мускулом, каждой косточкой, каждой клеточкой мозга, каждой частичкой сердца - одного - избавить кого-то от боли. Это лицо человека, решила я, которому можно доверять. И все же я уточняю: - До заката. - Обещаю. А теперь сделаешь кое-что для меня? Мое «да» выскакивает само собой, ведь я, Тило, так привыкла выполнять просьбы. Тогда я непривычно осторожно добавляю: - Если смогу. - Постарайся быть счастливой, о'кей? По крайней мере, пока мы не вернемся. Я молчу. Смотрю на дверь Харона, вспоминаю каменное выражение на его лице, когда видела его в последний раз. - Пожалуйста, я так хочу видеть тебя счастливой, - умолял Равен, сжимая мои руки в своих. Ох, Американец, как ты умеешь играть на струнах моей души! Ты знаешь, что я соглашусь сделать для тебя то, что считаю не вправе сделать для себя. Все ли женщины таковы? - О'кей, - отвечаю я и чувствую, как растворяется вся тяжесть, скопившаяся внутри. Мы спускаемся по ступенькам. Здесь, на темной лестничной клетке, я оставляю груз своей души (сейчас я перестану думать об этом) до вечера, пока не вернусь. Вот и место привала. Он наполняет стакан прозрачно-золотистой жидкостью цвета неба над нами, протягивает мне. Некоторое время я довольствуюсь тем, что только смотрю. Как у некоторых людей в самых, казалось бы, простых, неосознанных действиях сквозит благородная утонченность. Для меня это удивительно, ведь я сама никогда не отличалась никакой утонченностью, даже когда была в своем молодом теле. Когда я отпила (еще одно правило Принцессы нарушено), вино прокатилось по жилам холодом, потом жаром, пятнышки света, скопившиеся в уютном пространстве под веками, замерцали. Он взял мой стакан, повернул его и тоже отпил - так, что губы коснулись того места, где только что касались мои. Мой рот наполняется терпкой сладостью, страхом и предвкушением. В голове у меня легкость и парение. Это вино или он? Сегодня у меня каникулы, решила я, ни больше, ни меньше, как у тех туристов, что жизнерадостно порхают, как бабочки, повсюду. Каникулы от себя самой. Отдых у океана, что листом плавленого золота простирается до самого горизонта и навевает слезы. Кто не согласится со мной, что даже я имею право на такой день, один единственный раз в жизни. Равен опускается на колени прямо на землю, несмотря на свои брюки от Bill Blass, и выкладывает все, что приготовил для нашего ленча: булку хлеба длиной с его руку, нарезанные ломтики сыра в толстой белой шкурке, деревянную плошку, до краев наполненную земляникой, каждая ягодка формой похожа на поцелуй. Мне все это кажется невероятной экзотикой, но, когда я признаюсь ему в этом, он со смехом отвечает, что вообще-то это самая обычная еда. Я знаю, что это правда. И все же, когда я беру в руки ягодку, мне кажется, что это какой-то алый самоцвет, совершенный по форме в своей светящейся округлости, и, когда я пробую ее, меня переполняет ее чистый, неземной аромат. И вдруг я понимаю, что таким же странным должно казаться Равену все то, что привычно окружает меня в магазине: кориандр, гвоздика, чана [87]- и на меня нашла тень неизъяснимой и неясной, как дымка, печали. Стоп, Тило, сегодня ты отдыхаешь и от своих мыслей тоже, Итак, я полностью переношу внимание туда, где нахожусь, где волны Тихого океана невидимо бьются о берег где-то внизу, а над нами крики кружащихся чаек, - в это место, которое я запомню как никакое другое. Где я откидываюсь назад, в этот миг величественная, как какая-нибудь императрица (да, я), чтобы опереться о ствол кипариса, который тысячи лет гнули ветра, и направляю свой взор на просоленные морем купальни, поблескивающие на воде, как мираж. - Построены, - поясняет Равен, - каким-то глупым мечтателем. - Как я, - говорю, улыбаясь. - И я, - он тоже улыбается. - О чем ты мечтаешь, Равен? На миг он смутился. Как будто робость овеяла его крылом, что так редко в мужчине. Затем на его лице появилось новое выражение, от которого мое сердце затрепетало. Потому что это лицо говорило: у меня больше нет от тебя секретов. Я мечтала об этом с того самого момента, когда впервые увидела тебя в тот облачно-хрустальный вечер. И до сих пор. Равен, ну разве не глупо, что мне сейчас страшно, мне, Тило, хранящей так много чужих секретов - и мужских, и женских. Но я боюсь, что, когда узнаю твое желание, ты перестанешь отличаться от других, от всех тех, кто приходит в мой магазин. Ты получишь мою помощь и через это деяние будешь потерян для меня навсегда. Возможно, так будет лучше. Мое сердце снова будет принадлежать только специям. При одной мысли об этом мой ум засуетился, строя безумные планы, как найти способ помешать тебе говорить. Но я уже слышу твои слова: они обращаются в золотые крупинки в этом воздухе, полном соленых брызг. - Я мечтаю о рае на земле. Рай на земле! Эти слова заставляют меня вспомнить остров с вулканом, вокруг - куда ни кинешь взгляд - зеленоватый простор океана, манящие листья кокосовых пальм. Между пальцев ног забиваются теплые крупинки песка, остро посверкивающие серебром, как слезы в моих глазах, которым я не могу дать волю. Равен, можешь ли ты знать... Но он поясняет: - Высоко-высоко в горах сосны и эвкалипты, влажный запах деревьев, коры и шишек, а воды в ручьях такие свежие и прохладные, что когда отхлебнешь - кажется, будто до этого ты никогда не пил настоящей воды. Мой Американец, вот и в очередной раз ты показал, как несходны наши миры, даже в наших мечтах. Он продолжает: - Нетронутая природа, суровая и прекрасная одновременно. Где можно жить словно бы первобытной жизнью, бок о бок с медведями, тянущими морды к ягодам, с антилопами, замирающими на мгновение, чтобы прислушаться. Горными львами, устремленными за своей быстроногой добычей. В белом небе кружат черные птицы. И ни одного мужчины или женщины, кроме... В моем взгляде вопрос. - Я тебе все расскажу, - говорит Равен, отбрасывая назад радужную волну волос, - но я должен начать с того момента, когда все это родилось - моя мечта и моя война. Ты и война - Равен, с твоими спокойными нежными руками, твоими чуткими губами. Не могу себе представить. Когда я это подумала, солнце померкло. Стая ворон, хлопая крыльями цвета листьев дерева ним, пересекла небо над головой. Их унылые крики пали на нас, как предостережение. В напряженных уголках рта у Равена собрались тени. На его лице обозначились угловатости и темные провалы, вся мягкость ушла. В это мгновение передо мной было лицо человека, который способен на все. Тило, ты совсем не знаешь его. А между тем всем ради него рискуешь. Это ли не апофеоз глупости? Высокий гул, как от самолета-бомбардировщика, возникший у меня в ушах, перекрывает слова Равена. Но я уже знаю, о чем он поведет речь. О комнате умирающего. - Представь себе эту комнату: полумрак, - говорит Равен, - руки матери на моих плечах, в стремлении защитить меня, и этот старик с разваливающимся телом, но пламенеющим духом. Я, мальчишка в воскресном костюме, попавший как между двух огней: нить противостояния между ними искрит током, как провод под напряжением. Старик попросил: - Эвви, оставь нас с мальчиком на минутку, - и когда все тело матери собралось в единое «нет», он добавил: - Прошу тебя, у меня совсем мало времени. В его голосе звучала такая живая мольба, что я не понимал, как мама могла бы не уступить. Мое сердце кольнула беспомощность в надорванном тоне человека, не привыкшего просить об одолжении. Но мама стояла и глядела в темноту, как будто ничего не слышала. Точнее, наоборот: как будто она слышала эти просьбы уже не раз и устала от них. И первый раз за всю свою жизнь я увидел, что ее лицо сделалось черствым, недоверчивым и даже уродливым. Думаю, старик тоже все это увидел. Его тон изменился, стал тоже жестким и формальным. И хотя голос его был не громок, он прогремел в этих стенах рокотом водопада. - Внучка, - проговорил он, - я надеялся, что не придется этого говорить, но увы. Я прошу этого в качестве возвращения долга за все те годы, что ты жила со мной, за все, что я дал тебе, а ты все уничтожила, покинув нас. Так я узнал, кто он был для нее и для меня. - Все, чего я хочу, - продолжал он, - это чтобы у мальчика был выбор. Как был у тебя. - Он еще слишком мал, чтобы его принуждали к такому выбору, - возразила моя мать сдавленным голосом. Я чувствовал, как к горлу ее подползает страх. Моя мама боится, - подумал я в изумлении, потому что для меня это было совершенно невероятно. - Когда ты предпочла пойти по другому пути, разве я тебя принуждал? - спросил старик, он делал паузу после каждого слова, как будто преодолевал крутые склоны. - Нисколько. Я позволил тебе уйти, хотя тем самым ты вырвала у меня сердце. Ты же знаешь, я не причиню никакого вреда твоему мальчику. В окружавшей нас тишине я слышал дыхание слушающих нас людей. Вся комната вздыхала и выдыхала, словно одно огромное легкое. - Ну что же, - наконец сказала она, убирая руки с моих плеч. - Можешь поговорить с ним. Но только я останусь в комнате. - Как только мама сняла руки, и сделала шаг назад, - продолжал свое повествование Равен, - это было как будто она забрала с собой весь свет. Нет, позволь, я объясню понятнее. То, что ушло с ней, - был свет повседневности, в котором мы все делаем наши ежедневные дела и который освещает нашу дневную сущность. Но то, что осталось, когда она отступила, не было тьмой, это был тоже свет, но другой, мерцающий красноватый свет, и его можно воспринимать только каким-то особым зрением. И слова. Комната была полна слов, только требовался другой слух, не мой, чтобы их слышать. Старик не пошевельнулся и не проронил ни слова. Но я чувствовал, как он тянет меня к себе, чувствовал руками, ногами и в самом центре груди. Это было теплое влечение, как будто я и он сделаны из одного материала, земли или воды, или металла, а теперь, когд�
Читать дальше



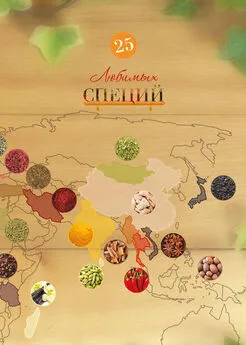
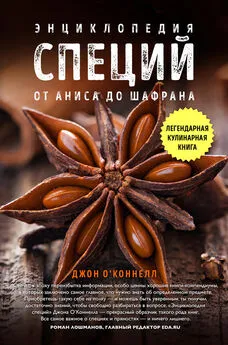

![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/1097429/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu.webp)