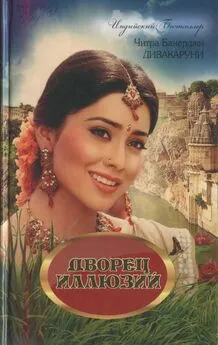Черный перец - Мне, пожалуйста, этот, - просит Американец, - я хочу этот. - Ты уверен? - спрашиваю я с сомнением. - Абсолютно. Во мне это вызывает ироническую улыбку. Тило, он так же самоуверен, как ты была когда-то на острове, и знает столь же мало. Так что теперь ты, как Мудрейшая, должна взять на себя эту роль - предостерегать и оберегать. Мы стоим у полок с бутербродами. Американец показывает на упаковку с чаначуром, на которой написано: «Бутерброд микс очень острый!». - Это действительно так, - подтверждаю я, - почему бы не попробовать что-нибудь помягче? Что ты стараешься доказать? Он засмеялся: - Свою мужественность, конечно. Сегодня понедельник. Официально магазин сегодня закрыт. Потому что понедельник - день тишины, белой фасоли мунг, посвященной луне. По понедельникам я иду во внутреннюю комнату и сижу в позе лотоса, медитирую. Я закрываю глаза, и мне является остров: покачиваются кокосовые пальмы, мягкое солнце колеблется на волнах вечернего моря, в воздухе, налитом сладостью, запах дикой жимолости, такой реальный, что мне хочется плакать. Слышны тонкие призывные крики орликов, пикирующих в воду за рыбой. Эти звуки похожи на скрипку. Является мне и Мудрейшая, и рядом с ней новые ученицы, я их не знаю. Но лица их светятся выражением, до боли знакомым: Мы спасем мир. По понедельникам я говорю с Мудрейшей. Потому что понедельник - день матери, день, когда дочери должны с ними обо всем говорить. Хотя последнее время я ничего не рассказываю. Так же, как и сегодня. Вот что случилось: Одинокий Американец пришел в магазин. В свете дня. Первый раз. А что в этом такого, спросите вы? Ночь в своем зачарованном звездном плаще всегда готова к обманам, особенно когда мы и сами не прочь в них поверить. Только в беспристрастном дневном свете видна истинная сущность мужчины. Я почувствовала его приближение задолго до того, как он остановился у закрытой двери магазина, глядя на мятую табличку «ЗАКРЫТО». Его тело - воплощение жара, он идет по оживленной улице походкой уверенной, но мягкой, как будто он шагает не по бетону, а по земле. О, Мой Американец, ты застыл в нерешительности, желая и не смея. Я сказала себе: вот сейчас я, по крайней мере, увижу, что самый обыкновенный человек. Стоя там, на улице, чувствовали он меня? С наружной стороны дверь словно заиндевела, а у меня внутри надрывается протестующий голос: не отвечай. Кричит: ты забыла - сегодня день, посвященный Матери, когда говорить надо только с ней и ни с кем другим. Я думаю, он его тоже услышал. Потому что не стал стучать. Он повернулся, Мой Американец, еще давая мне шанс. Но едва он сделал один шаг прочь, я открыла дверь. Просто посмотреть. Так я себя убедила. Он ничего не сказал. Не спросил. Только радость в его глазах показала мне, что он видит что-то более важное, чем мои морщины. Что же ты видишь? Американец, мне потребуется все мое мужество, чтобы спросить тебя об этом когда-нибудь. Однажды, может быть, скоро. И впервые в его сознании я уловила некое движение, как будто водоросль качнулась где-то на дне, глубоко в толще воды, почти незримо в просоленном полумраке. Это желание. Я еще не разгадала его. Но поняла только, что оно каким-то образом включает меня. Тило, ты всегда только выполняла чужие желания, но сама никогда не была предметом желаний. Счастливая улыбка растянула уголки моих губ, хотя Принцессы не очень-то привыкли улыбаться. Одинокий Американец, ты прошел испытание дневным светом. Ты не показался заурядным. Но я не успокоюсь, пока не отгадаю твое желание. Я толкнула дверь, ожидая сопротивления. Но она легко поддалась, широко распахнувшись, как будто в приглашающем жесте. - Заходи, - и слова не липнут к языку и не застревают у меня в горле, как я опасалась. - Не хотел беспокоить, - проговорил он. Дверь за нами мягко закрылась. Мой голос отозвался в напряженной гнетущей тишине, как звук колокольчика. - Как может побеспокоить тот, кого так рады видеть. Но внутри горстью сухого песка оседает вопрос: специи, вы и правда со мной или затеяли какую-то игру? - Но я должна тебя предупредить, - говорю я, протягивая Моему Американцу чаначур. В голове стучит: да ладно тебе, Тило, почему бы и нет? В конце-то концов, сам виноват. Искушение, соблазнительное, как пуховая перина. Так хочется позволить себе утонуть в ней. Все же нет, Одинокий Американец, я не хочу, чтобы ты потом говорил, что я воспользовалась твоим неведением. Поэтому я продолжаю: - Основная специя здесь - кало марич, черный перец. - Ага, - все его внимание в это время уже на бутерброде, который он нюхает. Специи заставляют его чихнуть. Он смеется, трясет головой, губы сложились, будто он неслышно присвистнул. - Черный перец обладает способностью вытягивать все секреты. - А ты думаешь, у меня есть секреты? - с озадаченным видом он отламывает кусок от бутерброда, который крошится у него между пальцев, и запихивает в рот. - Я уверена, что есть, - говорю я, - потому что и у меня есть. И у каждого. Я наблюдаю за ним, не уверенная в том, что специя будут работать теперь, когда я раскрыла ее магию. Так я еще не поступала, этот путь для меня нехожен, поэтому что будет в результате - скрыто от меня темным туманом. - Его не так надо есть? - спросил он, когда еще кусок чаны рассыпался в его пальцах, усеяв грудь рубашки желто-коричневыми крошками. Я невольно смеюсь: - Подожди, давай я сверну тебе кулек, как мы делаем в Индии. Из-под прилавка, где я обычно храню старые индийские газеты, я достаю кусок бумаги. Сворачиваю в конус и кладу кушанье. - Высыпи немного себе на ладонь. Если ты немного потренируешься, то сможешь даже подбрасывать и ловить ртом, но пока просто подноси руку к губам. - Да, мамочка, - изобразил он послушного мальчика. Так что сидит сейчас Мой Американец на прилавке, болтая ногами и поедая горячий бутерброд с острыми специями из бумажного кулька, так, будто это для него обычное дело. Он сидит босой, потому что ботинки снял еще у двери. Это ботинки ручной работы из мягчайшей кожи, их блеск не поверхностен, он исходит откуда-то из глубины. Ботинки, которые бы вызвали у Харона зависть и ненависть. - Ну, ваше почтение, - выговорил он, - как говорят индийцы. - Но не когда они в магазине. - Но разве ты бываешь где-то еще? Месяц проходит за месяцем, так много людей приходят и уходят, но только он обратил на это внимание. Ну разве не глупо, что приятное ощущение поднимается, словно электрическое покалывание от самых кончиков пальцев. - Я другая, - говорю я. - А почему ты думаешь, что я нет? - он улыбается долгожданной улыбкой, Как прекрасны, думаю я, ступни Моего Американца. (А лицо? Нет, я уже потеряла чувство дистанции, чтобы объективно со стороны оценить это.) Но его ноги: пальцы на ногах тонкие, безволосые, лишь слегка изогнутые, подошвы цвета светлой слоновой кости, но не такие гладкие. Я могу представить, как я держу их своими руками, кончиком пальца скольжу по всем неровностям... Стоп, Тило. Он ест с аппетитом. Крепкие белые зубы вгрызаются без смущения в жареный гарбанзо, желтые палочки сев, пряные арахисовые орешки в красноватой шкурке. - М-м-м, вкуснота, - но при этом втягивает в себя воздух маленькими остужающими глотками, чтобы охладить жжение на языке. - Это слишком остро для рта белого человека. Я же говорила - попробуй что-нибудь другое. Может быть, принести стакан воды? - И испортить этим весь вкус, - ответил он, - Ты смеешься, - и втянул в себя еще воздуха, но рассеянно. Что-то его задело. Минуту погодя он спросил: - Значит, ты думаешь, что я белый. - Не хотела никого оскорбить, мне так показалось. Он слегка улыбнулся, но я видела, что-то еще его озадачило. Я не пытаюсь прочесть его мысли. Если бы даже и могла. Я хочу, чтобы он сам со мной ими поделился. - Если бы ты сказал мне свое имя, - начинаю я, - может быть, я бы поняла, кто ты. - Как же просто, оказывается, все узнать о человеке. - Я никогда не утверждала, что это просто. Он доел в молчании, покачал головой, когда я предложила еще. Затем развернул кулек и, положив на прилавок, разгладил его, как будто этот лист газеты мог еще ему пригодиться для чего-то. Между бровей у него залегла острая складка - неудовольствия или боли. Взгляд из-под полуприкрытых век блуждает, как у дикого зверя, направленный мимо меня на что-то, видимое только ему. Я задала вопрос слишком личный, слишком поторопилась? Он встал на ноги, торопливо отряхнул брюки, как будто куда-то опаздывал. - Огромное спасибо за еду. Мне надо идти. Сколько я тебе должен? - Это было угощение, - надеюсь, голос не выдал, как я уязвлена. - Нет, достаточно угощений, - слова жестки, как стена между нами. Он положил бумажку в 20 долларов на прилавок и направился к двери. Тило, тебе следовало подождать с вопросами. А теперь ты его потеряла. Его ладонь на ручке двери. У меня такое ощущение, как будто она сжала мое сердце. Перец, где же ты в час необходимости? Он повернул ручку, дверь плавно открылась, предательски мягко, даже без единого звука. Я подумала: пожалуйста, не уходи. Можешь не рассказывать ничего, если не хочешь. Просто побудь со мной еще немного. Но я не могу произнести этого вслух, эти умоляющие слова, которые обнажат мое тоскующее сердце. Ведь я и до сих пор все еще остаюсь дарительницей, повелительницей желаний. Он на мгновение застыл на пороге, как будто что-то решая. Воздух еле проходит в мои легкие, будто царапая сухими когтями. Одним резким движением он закрывает дверь обратно. Его слова - удар грома, заставляющий меня вздрогнуть. Мой Американец, что же тебя так разозлило? - И какое имя тебе сказать? У меня ведь их много. Его голос грубый и ломкий, как нагромождение скал. На меня он не смотрит. И все же облегчение прокатывает во мне, как река. Когда я вздыхаю, воздух сладким медовым потоком вливается в горло. Он не ушел, он не ушел. - У меня тоже много имен, - откликаюсь я, - но только одно из них мое истинное имя. - Истинное имя, - он закусил губу на минуту. Откинул волосы - черной атласной волной. - Но я не уверен, какое из них оно. Может быть, ты поможешь разобраться. И так он начал свою историю. - Неудивительно, что ты решила, что я белый, - заметил Американец, - очень долго, пока был маленьким, я и сам так думал. Хотя, скорее, я вообще ничего не думал как большинство детей. Просто принимал это как есть. Мой отец был спокойный человек, большой и медлительный. Из тех людей, находясь с которыми рядом, чувствуешь, что тоже замедляешься - это спокойствие накрывает тебя, словно уютное шерстяное одеяло, даже сердце начинает биться медленнее. Позже я задумался: не поэтому ли моя мама вышла за него, что уповала на это его свойство. Из всего, что с ним связано, пожалуй, лучше всего я помню его руки. Большие и мозолистые от работы на нефтеперегонном заводе в Ричмонде, суставы были ободраны до костей. Полумесяцы масляной грязи у него под ногтями не исчезали, сколько бы он ни чистил их специальной щеточкой, что купила ему мама. Полагаю, он их стеснялся. Как они выглядели рядом с мамиными изящными, ухоженными пальцами, отполированными ногтями, с которых никогда не сходил идеальный блеск, что бы она ни делала по хозяйству в доме или в саду. Изредка, когда кто-нибудь к нам заходил, в основном, это были мамины знакомые по церкви, он втискивал руки в карманы и держал их там до тех пор, пока гости не уходили. Но со мной его руки не были скованными. Он клал одну мне на голову, когда я рассказывал ему о школе или какой-нибудь новой выдуманной мной игре, и это было само умиротворение. Я чувствовал, как она прислушивается. Когда у меня что-нибудь болело или я был расстроен, а иногда и просто без всякой причины, поздно вечером он приходил, садился у моей постели и поглаживал меня, его мозолистый большой палец легкими кругами гладил мои плечи, пока я не засыпал. Мне нравился запах, который оставляли его руки на моем теле, на моих волосах. Застарелый, дикий, терпкий, как какие-то лесные болота. Голос моего Американца потускнел, загустел, как лечебный мед, слова завязли в его горькой сладости - памяти того, что ушло безвозвратно. И во мне они начали открывать какие-то комнаты, которые, как я думала, заперты навсегда. - Наверное, я идеализировал его, - проговорил он, - как обычно дети идеализируют своих родителей, ну ты знаешь. Нет, Американец, не знаю. По мере того как ты рассказываешь, и в моей памяти всплывают картины из моего детства: родители отчитывают меня - или пытаются отчитать за что-то. Может быть, за тарелку с едой, что я кинула на пол, так как еда мне показалась невкусной, может быть, за драку, затеянную с сестрой, во время которой я расцарапала ей лицо и выдрала волосы. Вот отец обвиняюще грозит пальцем, мать качает головой: ее, мол, ничто не исправит. А я - как я зла, что они осмеливаются критиковать меня, хотя именно благодаря мне семья процветает, а люди, встречающиеся на рынке, взирают на них с благоговейным страхом. Я мерила их презрительным взглядом и так и смотрела в упор, пока они не опускали глаза и не пятились. Но сегодня, когда я слушаю Американца, все видится совсем по-другому. Я отчетливо вижу зажатость и страх в линии их понурых плечей. В их опущенных глазах - желание быть хорошими родителями, даже желание любить. Но только они не знают, как. Теперь я осознаю, что взгляд их - как у потерянных детей, и от всего этого мне хочется плакать. Возможно, однажды, Американец, я смогу рассказать тебе о том времени. А пока я, Тило, по-прежнему остаюсь терпеливым слушателем, всеобщим избавителем от проблем. Но он продолжает рассказывать, и я должна отбросить свои собственные печали, чтобы отдать все внимание его словам, которые взрезают защитный покров вечера своей пронзительной остротой. Здесь я почувствовала, что мы подошли к какому-то особо болезненному месту истории. - Но моя мама была совсем не такая. Я застыла - мое тело как дерево, как земля, как камень, - даже мое дыхание остановилось, пока он вновь не заговорил. Теперь я заметила, что его голос стал более ровным, фразы - длиннее и строже, как будто это очень давняя история о ком-то другом. Возможно, только так он может заставить себя продолжать. - Больше всего мне запомнилось то, что она все время что-то чистит, можно сказать, драит, чрезмерно энергично, почти сердито. Грязь на чем-то - включая меня и папу, - она воспринимала как личный вызов. Она часами возилась со стиркой, сражаясь с папиным запачканным рабочим комбинезоном, и каждый вечер, когда он мылся, она терла ему спину до красноты. Мы жили в небольшом домике, на самом краю довольно бедного района - почти сплошь заселенного заводскими рабочими и грузчиками с пристани. По вечерам они обычно выходили на крыльцо в одних майках и сидели, уставившись на пожелтевшую лужайку перед своим жалким домом и потягивая пиво из горлышка. Но, зайдя к нам, вы бы никогда не догадались, чей это дом. Внутри у нас все сверкало: лимонный линолеум на кухне, телевизор на стойке под ореховое дерево, занавески чистые и сладко пахнут каким-то средством, его мама добавляла в воду при каждой стирке. Начищенное столовое серебро и строгий надзор за тем, чтобы я правильно пользовался вилкой и ножом. Она не любила соседских детей, с их громким смехом и бранью, в рубашках со слишком короткими рукавами, которыми они утирали нос. Но все же она была хорошей матерью и понимала, что мальчику нужно с кем-то общаться. Она позволяла мне играть с ними и подчас даже приглашала зайти. Она угощала их соком с печеньем, они его смущенно съедали, сидя на краешке стульев, сияющих полированным деревом. Но стоило им уйти, она принималась меня отмывать - лицо, руки, ноги, все - мыла и мыла, как будто желая начисто смыть с меня все их следы. Она сидела со мной за обеденным столом, пока я делал уроки, и когда я взглядывал на нее, то иногда заставал на ее лице странное выражение, которое не мог объяснить - сильной любви и страдания одновременно. Перед сном у нас было что-то вроде ритуала. Каждый вечер, когда я уже переодевался в пижаму, она приглаживала мои волосы водой и тщательно зачесывала назад. Так, чтобы я мог встретить свои сны, выглядя прилично, объясняла она, завершая процедуру поцелуем в лоб. Других мальчиков могли бы, наверное, раздражать такие вещи, но не меня. Я обожал то, с какой решительностью и вместе с тем мягкостью она вела расческу по волосам, то, как она напевала что-то почти про себя. Иногда, когда она меня расчесывала, говорила, что лучше бы мои волосы были больше похожи на папины, а не такие жесткие, угольно-черные и спадающие на лоб, сколько бы она их ни причесывала. Хотя в душе я был рад. Я любил папу, но его волосы были жиденькие, ломкие, рыжеватые, с уже проглядывающей проплешиной. Я был счастлив, что унаследовал мамины волосы, хотя мои и были прямые, как нити, а ее завивались, очень мило обрамляя лицо кудряшками. ...В непроницаемом вечернем воздухе магазина тени обретают форму. Старые желания. Женщина, всем своим существом жаждущая приподняться над собственной жизнью, мальчик, глядящий на маму, и целый мир в его глазах. Это все говорит Мой Американец или я уже сама все вижу его глазами, в своем сердце? « - Пойми, - произнесла тень мальчика, - не принимай это за подростковые фантазии. Я считал свою маму самым прекрасным созданием. Потому что она действительно была прекрасна». На мгновение перед моим внутренним взором возникли другие женщины, которых ему случалось мельком видеть, когда они вывешивали одежду на общем заднем дворе. Прищепки в зубах, вздутые животы, обвисшая кожа на руках и шее, обвисшие груди. Мокрые от пота блузки, прилипшие к спинам. Или в школе - учительницы с тонкими губами, усталыми покрасневшими глазами, пальцами, вцепившимися в указку, мел, тряпку - Высохшие мумии. Но она: кружевные манжеты ее ночной рубашки, то, как она делала зарядку по утрам, аккуратно округляя спину, запах одеколона, которым она щедро брызгала шею. У нее было не много одежды, но вся из хороших магазинов. Когда она надевала туфли на шпильках, платье обвивалось вокруг ног при ходьбе, словно у героини из кинофильма. Даже имя - не какая-нибудь Сью, или Молли, или Эдит, как у соседок, а Селестина, которое она произносила нараспев и никому не позволяла сокращать. Всегда свежевымытые волосы, черный волнистый ореол, как будто сияние вокруг головы, которое мальчику напоминало святых на тех картинках из Библии, что раздавали им монахини в воскресной школе. Иногда она отводила свои локоны чуть назад и скрепляла заколками. Золотыми, серебряными с жемчужинами. Она хранила их в маленькой деревянной резной шкатулке и позволяла ему играть с ними и выбирать, какие ей надеть. - Она так бережно с ними обращалась, что я и представить себе не мог, что, как выяснилось спустя какое-то время, все они были фальшивыми, - слово прозвучало как жесткий выпад, - и то, что ее волосы вились не от природы. В тот день, когда я обнаружил бутылочку со средством для химической завивки в гараже за пачкой старых газет, я так обезумел, что даже перестал разговаривать с ней, - его голос снова дрогнул, от воспоминания, но потом перешел в раздраженный смешок: - Впрочем, это уже было не так страшно, потому что к тому времени мы и так мало разговаривали друг с другом. - Подожди-ка, - прервала его я, озадаченная его нетерпимостью, - неужели это могло расстроить тебя до такой степени? Для Америки совершенно нормально, что женщина завивает волосы. Даже я это знаю. - Потому что к тому времени мне стало известно, для чего она делала все то, что меня так восхищало. Вся эта ложь. - В детстве, - Американец продолжал свой рассказ, - я воспринимал своего отца как некое подобие скалы. А мою мать - как реку, стремящую свои воды с большой высоты. А может быть, я стал их так понимать позже, обращаясь взглядом в прошлое. Тихая сила одного, беспокойная красота другой. А я - я был как звук воды, падающей на камни, звук, который ни с чем не спутаешь, определение, не нуждающееся в дополнительных пояснениях. Так что меня никогда не интересовало, кто были мои предки или откуда я родом. Мой отец был сирота, выросший во враждебной атмосфере дома его родственников, которые не хотели, чтобы он у них жил. Может быть, поэтому он с такой готовностью поверил моей матери, официантке в придорожной закусочной, где он обычно завтракал, когда она сказала, что у нее никого из родни не осталось. Отсутствие семьи показалось ему вещью вполне реалистичной и ужаснуло его. Может, это и придало ему смелости сделать ей предложение, этой изумительной девушке с волосами, как грива дикой лошади, и взглядом дикой лошади. И когда она пожила немного с ним, она и сама начала верить. Но может, она верила в это и раньше. А может, поверила, когда ушла, сбежала от них, не оставив даже записки, вроде: «Не ищите меня»; когда она подстригла волосы и уложила их в прическу, когда изменила форму бровей, выщипав их, и накрасила губы; когда взяла себе имя красивое и достойное, какое всегда хотела иметь, - это и было как отрыв от корней, как смерть всего того, что ее связывало с семьей. ...В магазине совсем темно. Полная мгла. Сегодня безлунная ночь, а на улице кто-то разбил фонари, так что даже узенькой полоски света не пробивается сквозь закрытые жалюзи. Я слушаю Моего Американца и думаю о том, как темнота изменяет тембр голосов, углубляет их, отрезает их от самого говорящего, так что слова начинают жить своей жизнью. Американец, как оформить твои парящие в воздухе слова, цветом какой специи окрасить? - Однажды - мне тогда было около десяти, может, меньше, - продолжал он, - к нам пришел человек. Был будний день, отец на работе. На этом мужчине было старое пальто с оторванным рукавом у подмышки и джинсы, пахнущие животными. Его волосы, черные и прямые, спадали на плечи и выглядели смутно знакомыми. Когда мама открыла дверь, ее лицо мгновенно стало серым, как старый мешок. Затем она отвела взгляд, твердый, как бетонный порог, на котором он стоял в своих ботинках, покрытых коркой грязи и навоза. Она хотела закрыть дверь, но он позвал: - Эвви, Эвви, - и когда я увидел ее глаза, я понял, что он называет ее настоящим именем. В голосе Американца появились высокие удивленные нотки, как у человека, снова окунувшегося в старые детские впечатления. - Она велела мне пойти в другую комнату, но я все равно слышал режущий звук ее голоса - будто вилкой скребут по тарелке. - Какого черта приперся! - и это моя мама, которая всегда говорила на безупречном английском и каждый раз мыла мой рот мылом, когда я имел неосторожность сказать «неа». Его же голос гудел все громче и громче: - Постыдилась бы, Эвви, отворачиваешься от своего народа. Посмотри на себя, ведешь себя как будто ты из них, думаешь, что ты такая красивая и благородная, а твой мальчик даже не знает, кто он на самом деле. Она дико зашипела на него, чтобы только прервать: - И что, ублюдок? После этого я слышал только обрывки: он умирает - ну и что, что он умирает, я ему ничего не должна - потом слова на языке, которого я не знал. И наконец: - Черт, Эвви, я обещал ему, что найду тебя и сообщу. Я свое обещание выполнил. А ты поступай, как знаешь. Входная дверь хлопнула, и все стихло. Через довольно долгий промежуток времени я услышал, как она тихо начала что-то делать, спотыкаясь на своих высоких каблуках, как старуха. Я зашел в кухню, и она дала мне чистить картошку. Время от времени я тайком бросал на нее взгляды, пытаясь прочесть выражение на ее лице, желая, чтобы она что-нибудь объяснила про того мужчину. Но она не обмолвилась даже словом об этом. А перед самым папиным приходом она умылась и накрасилась и нацепила на себя улыбку. Тогда-то я впервые понял, что в душе у моей мамы есть секрет, и она хранит его ото всех, даже от меня, которого любит больше, чем кого бы то ни было. Рано утром на следующей день, когда отец уехал, она зашла в спальню, а когда вышла, я увидел, что на ней ее лучшее платье: темно-синее с маленькими перламутровыми пуговичками спереди до самого низа, жакет в тон и жемчужное ожерелье, которое хранилось у нее в бархатном футляре и которое она весьма неохотно давала мне трогать. - Собирайся, мы кое-куда едем, - сказала она. - А как же школа? - удивился я. И моя мама, никогда не позволяющая мне пропускать уроки, на этот раз только бросила: - Ничего, поехали. Всю дорогу в машине она молчала, не ругалась, когда я настраивал радио или слишком громко включал музыку. Пару раз я порывался спросить, куда же мы едем, но у нее был такой отрешенный и нахмуренный вид, как будто она прислушивалась к голосам где-то глубоко в себе, что я так и не решился. Часа два мы ехали молча. А когда завернули на узенькую улочку с нищими крашеными домиками, раздолбанными машинами во дворах, зарослями одуванчиков и мусором, вываливающимся из мусорных баков, она издала короткий звук, как будто что-то внезапно уперлось ей в грудь, может быть, то же, что мучило ее сомнениями всю дорогу сюда. Она резко затормозила и вышла из машины, очень прямая и высокая, так крепко сжимая мою руку, что она болела потом еще несколько дней. Мы направились в маленький дощатый домик, внутри которого пахло гнилью, как от сырой одежды, которую слишком долго замачивали. В доме мы сразу же прошли на кухню, причем так, как будто она знала, куда идти. Кухня была забита мужчинами и женщинами, некоторые из них что-то пили из коричневых бутылей, и когда я взглянул на их отяжелевшие мрачные лица, волосы, свисающие безвольными черными прядями и закрывающие лоб, - это было как смотреться в кривое зеркало. Моя мать прошла мимо них, как будто их не существовало. Цокот ее каблуков по расцарапанному линолеуму звучал четко, уверенно. Ее пальцы, сжимающие мои, были мокрые от пота, и я знал, что она чувствует взгляды на перламутровых пуговицах платья, слышит шепоток, веющий по комнате, как морозный ветер, от которого гибнут молодые фруктовые побеги. ...Американец остановился, словно опять пришел к какой-то поворотной точке, наткнулся на стену и не знает, с какой стороны ее обойти. Я посмотрела на него другими глазами, на его волосы, цвет кожи и форму скул, пытаясь увидеть в нем тех людей, что он описывал. Но он по-прежнему - Мой Американец, просто он не похож ни на кого. - Наконец мы оказались в тесной комнатушке, в нее набилось слишком много людей и там было мало света. На кровати в углу виднелось что-то узкое, вытянутое, прикрытое шерстяным одеялом. Когда мои глаза привыкли к тусклому свету, я увидел, что там лежал человек. Мне он показался непомерно, ужасающе старым. Кто-то пел, тряся чем-то, напоминающим большую погремушку. Я не понимал слов, но ощущал, как звуки пения обволакивают, обвивают, как змейка, всех, кто находится в этой комнате, единым кольцом. Когда они увидели мою мать, все замерли. Тишина настала так внезапно, как будто тебе шарахнули кулаком по уху. Старику помогли сесть на постели и поддерживали за плечи, чтобы он не завалился на спину. Он поднял голову с таким усилием, что я почти услышал, как его вялые мышцы заскрипели и растянулись. Он открыл глаза - и в этой комнате они сверкнули ясно, как пятнышки слюды на стене пещеры. - Эвви, - проговорил он. Слова вышли острые и четкие, как стрела - чего я не ожидал от старого человека. Затем: - Сын Эвви, - зов в его голосе был как объятие. Я хотел тут же подойти к нему, хотя всегда был робок с незнакомцами. Но руки мамы лежали у меня на плечах, пальцы сжаты беспомощно, как лапки маленькой испуганной птички. Американец сделал глубокий судорожный вздох, как будто пробился через длинный душный туннель. Затем потряс головой: - Не могу поверить, что я рассказываю тебе всю эту чушь, - попытался он защитить свое мужское самолюбие этим маленьким жестким словом, - и впрямь, этот перечный закусон действует мощно. Мой Американец, что бы ты ни говорил, это не только специи, но и твое собственное желание, чтобы я тебя выслушала. Верю и надеюсь на то. Вслух же я сказала: - Это не - как ты выразился - чушь. Ты сам прекрасно знаешь. Но вижу, что придется ждать долго, может быть, всю жизнь, прежде чем я узнаю, что же случилось в комнате умирающего. Но я только наполовину жалею, что он остановился. Его слова уже наполнили собой все пространство магазина, они переливаются уже через край, как неудержимый поток. Его толща давит на меня своей непроницаемостью. Мне самой потребуется время, чтобы выплыть из него и понять, какие границы он стер между нами. Меж тем как бы я желала ему сказать: я сохраню этот момент из твоей жизни, как нетленную искру в своем сердце. Но внезапно я оробела, я, Тило, что некогда была столь дерзка и самоуверенна. Как бы сейчас смеялась Мудрейшая. Все, что я могу выдавить из себя, это: - Если захочешь еще поговорить - моя дверь всегда для тебя открыта. Он засмеялся тем прежним смехом, легким и насмешливым. Он обводит рукой полки: - Все это и бесплатная консультация в придачу. Но при этом смотрит мне в глаза, и глубокий свет в них показывает, что ему хорошо. Однажды тебе придется признаться, что же ты видишь, когда смотришь на эту оболочку, покрытую морщинистой старческой кожей. Это - что-то истинное, чего я сама в себе не подозреваю, или же какая-то твоя фантазия обо мне. У двери он спросил: - Ты все еще хочешь знать мое имя? Мне почти смешно от такого вопроса. Одинокий Американец, разве ты не слышишь, как мое сердце выпевает в страстном ритме: да-да-да. Но я заставляю себя повторить слова, которыми напутствовала меня Мудрейшая, перед тем как я покинула остров: - Только если сам хочешь. Ведь истинное имя хранит силу, и когда ты открываешь его кому-то - то вручаешь ему часть этой силы. Зачем я говорю тебе то, чего ты не поймешь. - Ты хочешь узнать мое настоящее имя? Ну что же. Может быть, я смогу правильно определить его среди всех. - Каким образом? - спрашиваю я, а сама думаю: «Вряд ли». - Те были даны мне другими, а это я выбрал сам. Американец, ты снова меня удивил. Я-то полагала, что ты, будучи человеком Запада и так привыкший руководствоваться собственным мнением, не станешь выставлять это в качестве аргумента. Он помедлил и наконец произнес: - Мое имя Равен. И он принялся чертить пальцем ноги узоры на полу, не глядя на меня, В нежном изумлении я вижу, что Мой Американец немного смущен своим неамериканским именем. - Но оно восхитительно, - воскликнула я, пробуя на язык его долгое, как взмах крыльев, звучание. Его запах - жаркое небо, рассветное и закатное, темный вечерний лес, яркий взгляд, дымчато-угольное оперение, - и подходит тебе! - Ты считаешь? - вспышка удовольствия в глазах, так же мгновенно спрятанного: Равен, ты думаешь, что уже достаточно раскрыл себя для одного дня. - Ну, а о том, как я это понял, - добавил он, - я расскажу тебе в следующий раз. Может быть. Я согласно кивнула, я, Тило, на этот раз не разрываемая нетерпением узнать все. Я доверяю им, нерассказанным историям, которые связывают нас, как золотые нити. Его история и моя. Они не пропадут, даже если не будут рассказаны. - Равен, а теперь я должна открыть тебе свое имя. Поверишь ли ты, если я скажу, что во всей Америке, во всем мире, ты единственный человек, кто узнает его? Где-то в это время земля взбрыкнула под ногами и раскололась. Где-то вздрогнул вулкан и, пробуждаясь, выплюнул огонь. Ветер обращается в пепел. «Да» - говорят его глаза, глаза Моего Американца, который позволил спасть покрову своего одиночества. Он протягивает свою мерцающую загорело-золотистую руку (где-то рыдает женщина), и в нее я вкладываю свое имя.
Читать дальше



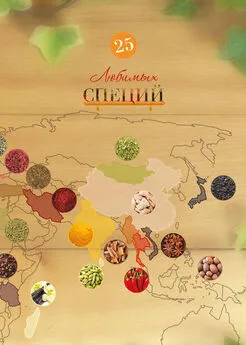
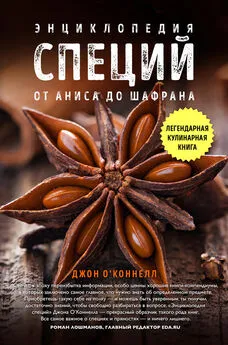

![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/1097429/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu.webp)