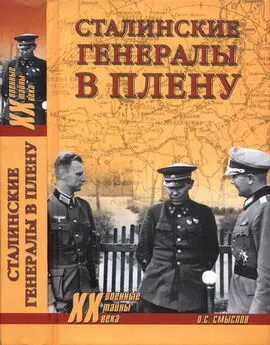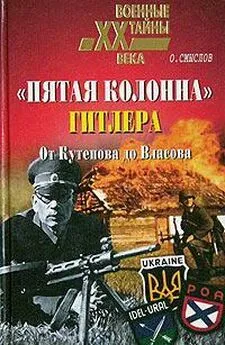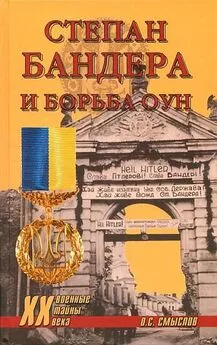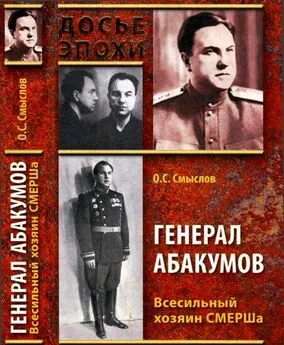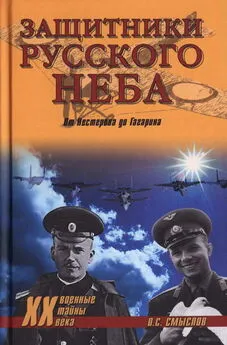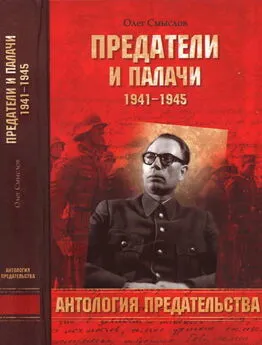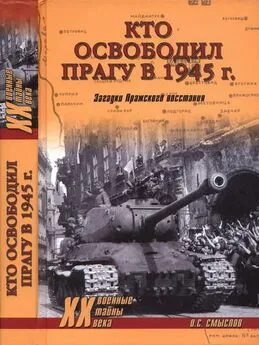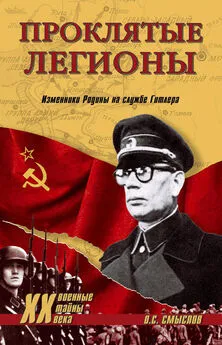Олег Смыслов - Сталинские генералы в плену
- Название:Сталинские генералы в плену
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-4444-2095-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Смыслов - Сталинские генералы в плену краткое содержание
Новая книга О.С. Смыслова продолжает рассказ о самой трагичной стороне войны — плене. Теперь объектом исследования стали судьбы генералов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оказавшихся в годы войны в немецком плену. На страницах книги рисуются тяжелейшие испытания, выпавшие на долю попавших в плен генералов, анализируется их поведение в плену и дается оценка тем или иным действиям.
Сталинские генералы в плену - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все тот же Палий побывал и в «знаменитом» Хаммельбурге, о чем оставил достаточно подробное описание: «Хаммельбург — старинный немецкий город на севере Баварии. Международный лагерь для пленных офицеров вырос вокруг военного городка еще кайзеровских времен. В центре находилось десятка полтора двухэтажных кирпичных казарм, складов, конюшен и административных зданий, а во все стороны расползались улицы стандартных деревянных, в основном трехкомнатных бараков. Лагерь был разделен на 9 блоков, из них 3 русских. С прибытием нашей группы население этих русских блоков стало около четырех тысяч человек. Все три русских блока и один блок, где находились казармы немецких солдат охраны, были по одну строну центральной части, а по другую был лагерь английских, канадских и американских пленных офицеров. Эти блоки были совершенно изолированы от нас, и я лично, за все два месяца пребывания в Хаммельбурге, ни разу этих “избранников судьбы” не видал. Все то, что нам говорили конвоиры на пути из Лысогор в Хаммельбург, было правдой: в офицерском лагере для всех этих наций были хорошо оборудованные бараки, библиотеки, спортивные площадки, клубы, даже кино…
Всем этим пленным офицерам была разрешена переписка со своими семьями, они получали личные и стандартные краснокрестские посылки, все были сыты, хорошо одеты. Все это было доступно для офицеров союзных армий разных национальностей, но не для нас, Богом забытой “советской” национальности. Здесь, в Хаммельбурге, конечно, было довольно чисто, не так скученно, были бани, нормальные армейские уборные, прачечная, раз в неделю работали парикмахеры, но питание было заметно хуже…»
Любопытную характеристику Палий дает и находившимся там советским генералам: «В группе пленных генералов Красной армии, содержавшихся в Хаммельбурге, — среди них были Карбышев, Лукин и ряд других с громкими именами, — в продолжение последних месяцев обсуждалось, что произошло, что происходит и чего можно ожидать в будущем, как в отношении исхода войны, так и в отношении судьбы всей массы советских пленных, переживших зиму 1941–42 годов. Теперь эти вельможи советской военной элиты понимали, что если Советский Союз устоял и не распался при первом сокрушительном ударе Германии, то будущее становится очень неопределенным. Там, в этом “генеральском бараке”, не было единого мнения ни по одному вопросу, но у всех у них безусловно был известный “комплекс вины”. Если бы осенью 1941 года они не растерялись, не спрятались за своими чинами, как улитки в раковинах, а решительно и настойчиво стали бы говорить с немецкой администрацией лагерей, используя авторитет крупных военачальников, признаваемый и немцами, то вполне вероятно, что условия существования пленных во многих лагерях можно было бы улучшить. Во всяком случае, можно было бы не допустить, чтобы внутренняя администрация этих лагерей попала в руки авантюристов и негодяев типа Гусева, Скипенко или Стрелкова, как это случилось в Замостье, где в генеральском бараке жил тот же Карбышев и другие генералы».
Свое видение событий в Хаммельбурге сохранил и В. Новобранец: «Нашей собственной внутрилагерной организации здесь уже не было. Командиров рот назначали сами немцы. На кухню немцы подбирали “придурков” тоже из наших предателей. По замыслу фашистов, в этом лагере после идеологической обработки должна была производиться вербовка командиров во власовскую армию или особые добровольческие легионы. Поэтому немцы здесь сосредоточили лучшие кадры гестаповцев, полиции и агентуры. Пропаганду вели на “научной основе”: среди пленных распространялись книги, брошюры, плакаты, в которых “ученые” фашисты с “научных позиций” пытались ревизовать марксизм-ленинизм. В этой области особенно отличался некий Альт Брехт. Мы прозвали его “старый брехун” — по игре слов: альт — старый, а “брехт” — производное от простого русского — брехло, брехать.
Я попал в сектор старших штабных офицеров от майора до полковника. Младшие офицеры размещались в других секторах по соседству с нами».
Ходил он и к генералам, тем более многие из них были старыми знакомыми: «…встретил генерала Шепетова, товарища по Академии им. Фрунзе. После первых приветствий и обмена новостями узнал от него, что здесь находится еще один наш товарищ по выпуску — генерал Ткаченко Семен Акимович и наш любимый преподаватель профессор Академии Генштаба генерал Карбышев Дмитрий Михайлович. Ткаченко тот самый, который в 1937 году спас нашего однокашника Гладкова.
Ткаченко и Шепетов жили в одной комнате. Я пошел к друзьям по Академии, а потом мы втроем вышли на прогулку. Было о чем переговорить, вспомнить, погоревать и посмеяться… Во время нашей беседы подошел генерал авиации Тхор. Ткаченко познакомил меня с ним и кратко изложил суть моей беды. Генерал Тхор спросил, сколько нас прибыло и есть ли среди прибывших смелые, надежные люди, чтобы вовлечь их в подпольную работу. Я ответил, что сюда прибыла вся наша подпольная организация, полностью сохранившая свою дееспособность. <���…>
От друзей я узнал, что существует и генеральская группа подпольщиков, которой руководит Карбышев. В нее входили генералы Шепетов, Ткаченко, Тхор, Зусманович, Мельников и другие».
3
По мнению Н.П. Дембицкого, «тяжелые условия лагерной жизни, строгая изоляция от внешнего мира, активная пропагандистская работа среди военнопленных существенно влияли на подавление духа и достоинства людей, вызывая чувство безысходности. Многие в результате увиденного и пережитого, поддавшись вражеской пропаганде, человеческим эмоциям, различным посулам и угрозам ломались и становились на путь сотрудничества с врагом, тем самым сохраняя себе жизнь, но при этом переходили в разряд изменников Родины. <���…>
Значительное число военнопленных приспосабливалось к лагерной жизни и занимало выжидательную позицию. Вместе с тем в лагере находились и те, кто имел крепкие нервы и огромную силу воли. Именно вокруг них группировались единомышленники. Они совершали побеги, саботировали производство и совершали диверсии, оказывали помощь нуждающимся, верили в Победу и возможность выжить…»
Итак, побеги…
По одной из версий, командир 4-й танковой дивизии генерал-майор танковых войск А.Г. Потатурчев в ноябре 1945 года, после освобождения из концлагеря в Дахау, был арестован органами НКВД и умер в тюрьме в июле 1947 года. Но есть и другая версия, более правдивая. Ее приводит в своей документальной повести историк М.Ф. Кадет, опираясь исключительно на воспоминания вдовы генерала Марии Алексеевны Потатурчевой: «Пробираясь к линии фронта, Андрей Герасимович переоделся в гражданское. В Бобруйске случайно столкнулся с вольнонаемным, работавшим в тылу 4 дивизии, и тот узнал генерала. Завхоз (по определению Марии Алексеевны) предложил Потатурчеву на время укрыться и подлечиться в доме его родственника. Генерал согласился, а ночью его схватили немцы: завхоз, судя по всему, оказался предателем. После двухсуточных допросов Потатурчева повели на расстрел. Пуля навылет прошла ниже сердца. Мария Алексеевна позже видела шрамы на груди и спине. Очнулся Андрей Герасимович в воде, куда его, посчитав убитым, немцы сбросили с обрыва. Заполз в камыши. Под вечер окликнул мужчину, пасшего коров. Когда стемнело, за Потатурчевым пришла девочка и привела в хату. Там его вымыли, переодели, накормили. Позже отправили к партизанам. Оттуда генерал вновь направился к линии фронта. Дальнейшие подробности рассказала Мария Алексеевна: “В ночь на 4 января 1942 года Андрей Герасимович вышел из окружения в Тульской области и при содействии военных властей на машине доехал до Москвы. 5 января он явился в наркомат обороны, где ему предложили написать дома подробное объяснение всего произошедшего и затем приехать в наркомат. Утром 6 января мужа вызвали по телефону в наркомат и прислали за ним машину. Я проводила его до здания наркомата. Вечером позвонила повторно в наркомат, где мне ответили, что Андрей Герасимович приедет позже. Больше я его не видела. Мужа сначала держали в Лефортовской тюрьме, куда я носила передачи. Затем его перевели в Бутырскую тюрьму. Вскоре не стали принимать передачи. Позже объяснили, что 30 сентября 1945 года Андрей Герасимович умер в тюремной больнице. Он долго болел. 11 августа 1953 года я была вызвана в пенсионный отдел Министерства Обороны СССР, где меня известили, что есть постановление МВД СССР от 5 августа 1953 года о прекращении дела в отношении генерала Потатурчева Андрея Герасимовича и мне назначена пенсия за реабилитированного мужа…”»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: