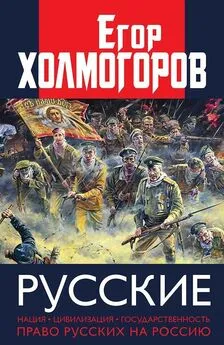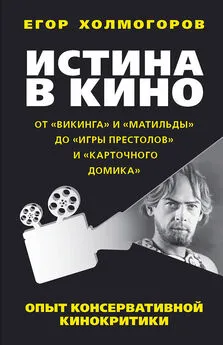Егор Холмогоров - Карать карателей. Хроники Русской весны
- Название:Карать карателей. Хроники Русской весны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-8041-0732-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Егор Холмогоров - Карать карателей. Хроники Русской весны краткое содержание
Новая книга известного публициста и идеолога русского национализма Егора Холмогорова, посвящена освободительному движению русского народа на Украине.
Евромайдан и воссоединение Крыма с Россией, восстание Донбасса и связанный с этими процессами раскол русского национального движения, сбитый «Боинг» и Одесский Холокост, санкции и контрсанкции — каждому из этих событий автором дана оценка с точки зрения русских национальных интересов.
Что ждет русских в России и за ее пределами? Будет ли построен Русский порядок для Русского мира? Смогут ли «ястребы» российской государственности провести операцию по принуждению киевской хунты к миру или в Кремле восторжествуют «голуби» западной ориентации и сольют протест Новороссии вместе с будущим Великой России?
На эти и другие вопросы дает читателю нелицеприятный ответ создатель ставшего крылатым выражения «Русская весна» Егор Холмогоров.
Сам автор говорит о причинах, заставивших его написать эту книгу так: «Меня могут спросить, почему я выпускаю книгу, не дождавшись какой-то логической точки в событиях. Отвечу. Я не писатель и не историограф. Я публицист. Это значит — солдат. Моё оружие — слово. И это слово в процессе борьбы гораздо нужнее, чем по её окончании. Сейчас эта книга может что-то изменить, кому-то помочь, кого-то переубедить, кого-то спасти. Потом это будут слова минувших дней. Поэтому я выпускаю эту книгу сейчас, на переломе событий».
Карать карателей. Хроники Русской весны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Очередь ассоциировалась с советским дефицитом. Стоять очередь за приобщением к Западу было contradictio in adjecto.
Была и еще одна причина. Гораздо более прозаичная. У нас просто не было денег на то, чтобы себе позволить поход по гамбургер. Мы и в советские времена жили небогато, а с перестройкой, новым мышлением и демократизацией вовсе впали в нищету.
В 1990–1991 году вообще не о чем было говорить. В 1992-м, с началом «свободы торговли» (единственным действительным достижением «реформаторов» — вообще удивительно, что западные кураторы хотя бы его им позволили), мама ходила на рынок, покупала там зелень — какую-то горькую траву (кажется, базилик), хлеб-питу и потроха. Вкусно жарила потроха, забрасывала их с зеленью в разрез питы, и я этот самодержавный гамбургер ел со вкусом, зачитываясь при этом первым томом Фернана Броделя (на трехтомник ушли все наши семейные сбережения за год и небольшие юношеские заработки) «Структуры повседневности: возможное и невозможное».
Бродель как раз писал про еду. Про привилегированность Европы, которая, будучи земледельческой цивилизацией, могла себе, однако, позволить достаточно много мяса. А после открытия Америки еще и улучшила свой рацион за счет тамошних продуктов — в частности, томата.
Если вдуматься, то гамбургер был как бы своеобразной квинтэссенцией этой пищевой привилегированности: хлеб — мясо — зелень — помидор.
Позднее, годах в 1994–1995, мы вместе с моей первой женой Натальей Холмогоровой (ныне известной русской правозащитницей) придумали себе концептуальное развлечение. Когда изредка у нас заводились деньги, мы ехали на Новый Арбат, где рядом с книжным располагалась палатка, в которой продавали исключительно вкусные чизбургеры. Не знаю уж, в чем был их секрет, но никогда и нигде я потом не едал таких чизбургеров. Мы наскребали свои деньги, покупали этот чизбургер и радостно съедали его на двоих, споря о Достоевском. Мысль пойти в «Макдоналдс» нам по-прежнему не приходила.
Лишь где-то в 1996-м я побывал наконец в этом заведении и с тех пор бывал с некоторой средней регулярностью, не переходящей ни в детский фанатизм, ни в антиглобалистское уничижение.
Год-два назад, постарев и потеряв иммунитет, я там бывать перестал, поскольку теперь буквально чувствую на вкус отдельные химические элементы, из которых состоит тамошняя продукция. А еда — это все-таки путь обмана. Ты должен думать, что ешь курицу, овощ или пьешь молоко, а не таблицу Менделеева.
«Макдоналдс» стал одним из символов глобализации. Не случайно антиглобалисты всего мира так любят во время своих демонстраций побить в «Мадоналдсах» стекла. Работа там стала символом низкооплачиваемой, утомительной и бессмысленной работы — mac-job (мак-рабство). Однако для позднесоветского человека «Мак» навсегда останется символом западнического потребительского фетишизма.
Почему?
«Мак» создает иллюзию стандарта, иллюзию гарантированного качества, иллюзию повсеместной понятности. Именно поэтому в незнакомой стране, даже с очень хорошей своей национальной кухней, «наш человек» традиционно отправлялся в «родной» «Макдоналдс». Это качество, кстати, делает «Маки» идеальными придорожными закусочными на автобанах.
В лице чизбургера, картошки-фри и «Колы» мы получали понятный «западный выбор» без необходимости думать самому и выбирать. Мак-стандарт. Это последнее свойство и отличает «Мак», именуемый гордо «рестораном», к примеру, от «Пушкина», иронично именующего себя «кафе» — своеобразной цитадели русского духа, гордо противостоящей «Маку» на другой стороне бульвара.
Заказ в любом ресторане, сколь угодно элитном или простецком, требует определенной умственной деятельности, способности выбирать, знания своего вкуса, а значит — самосознания и самопознания. Человек, способный объяснить официанту, что нужно сказать повару, чтобы получить желаемое, проявляет себя как развитая самосознающая личность, хоть и во второстепенном для духа вопросе.
Пользователь «Макдоналдса», конечно, от этой рефлексии освобожден напрочь. Он ничего не решает и не выбирает. Он заказывает одну из стандартных позиций, до боли похожих на любую другую. Он — чистый потребитель, поскольку не производит даже собственной воли, своего пожелания, своего «хочу».
«Мак-модель» социальной инженерии стала фирменным приемом американизации, политкорректно именуемой «глобализацией». Запад начал поставлять миру не столько продукцию и блага, сколько стандарты и «готовые решения», и больше всего злится не на тех, кто не покупает американское (в конечном счете «американское» в 90 % случаев является китайским, а тот же «Макдоналдс» в большинстве стран мира, за вычетом, как ни парадоксально, России, является франшизой), а на тех, кто не хочет брать стандарт, кого не устраивают «готовые решения».
В 1990 году к нам «зашли» не только «Макдоналдс», но и «мак-демократия», «мак-либерализм», «мак-европейские ценности», «мак-музыка» и «мак-тряпки». Россия, покорно выстраиваясь в очереди, все это начала жевать. И казалось, наш потолок приобщения к Западу достигнут.
Но вскоре обнаружилось явление, которое многомудрые грантовые социологи, у коих на все найдется политкорректный термин, окрестили «сопротивлением материала». «Материал», человеческая протоплазма русских, оказался недостаточно послушным. Ему не нравились то «мак-демократия», то «мак-реформы», потом он дорос до недовольства «мак-геями» и «мак-Украиной». И вот уже посягнул на то, с чего все начиналось — на «Макдоналдс».
Первым звонком стало закрытие «Макдоналдсов» в освобожденном Крыму. А, надо сказать, «Маки» в Ялте и Севастополе играли видную роль в городском ландшафте.
В Ялте «Мак» логически увенчивал собой набережную, вознесясь непокорной буквой «М» выше самого ялтинского Ленина (интересно, что в то время как по всей Украине был «ленинопад», в Крыму случился «макопад»). Вокруг стояли аттракционы, суетились дети, стояли стройными рядками в униформе из маленьких черных платьев проститутки.
Рональд Макдоналд был естественным царем этой набережной горы, логическим центром, к которому стекалась вся ялтинская цветущая сложность.
Еще большее значение имел «Макдоналдс» на площади Лазарева в Севастополе, долгое время бывший единственным заведением в городе, где, по представлению туриста, есть «нормальная еда». К его кассам и окошкам выстраивались очереди, пакеты с гамбургерами и «Колой» везли на машинах через полгорода на «Победы» и «Омегу». Весь центр Севастополя был раскрашен выброшенными мак-обертками и мак-стаканами. «Мак» буквально погребал под собой центр Севастополя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
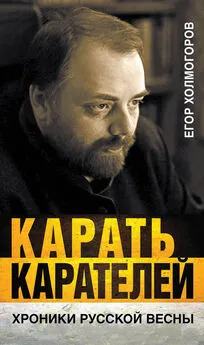
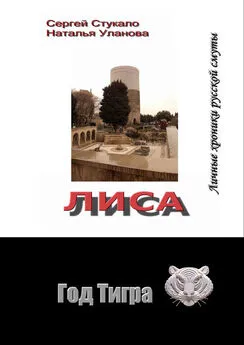
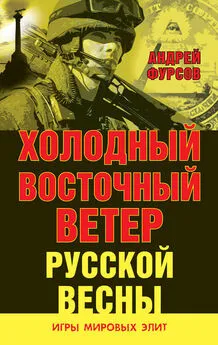
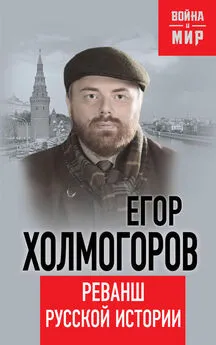
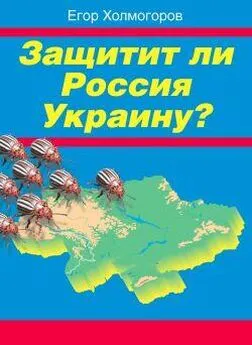
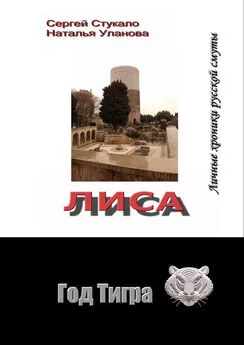
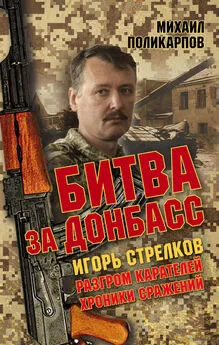
![Юлия Терехова - Хроника смертельной весны [СИ]](/books/1100014/yuliya-terehova-hronika-smertelnoj-vesny-si.webp)