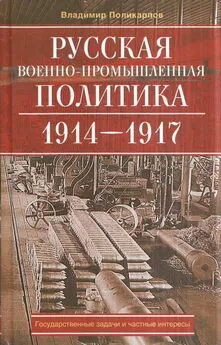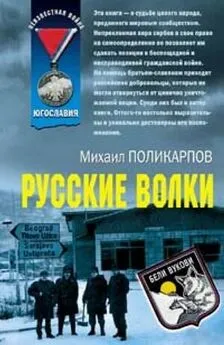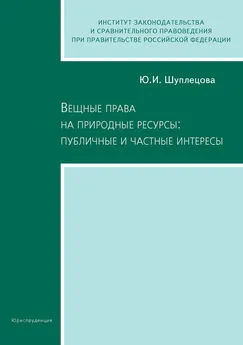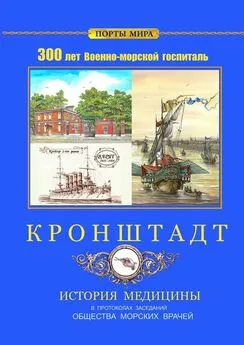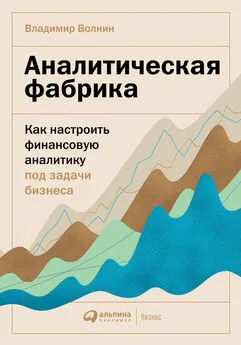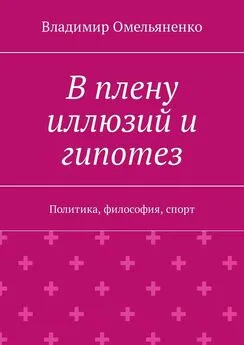Владимир Поликарпов - Русская военно-промышленная политика. 1914—1917. Государственные задачи и частные интересы.
- Название:Русская военно-промышленная политика. 1914—1917. Государственные задачи и частные интересы.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-227-06136-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Поликарпов - Русская военно-промышленная политика. 1914—1917. Государственные задачи и частные интересы. краткое содержание
Состояние военной промышленности может служить показателем уровня экономического и культурного развития страны. Насколько успешно Российская империя снабжала свою армию винтовками, орудиями, боеприпасами? Чем были вызваны провалы в этой области? В какой мере удавалось возместить недостающее союзническими поставками? Поиск ответа на эти вопросы до сих пор является исследовательской задачей. Требуется отделить точно установленные данные, обоснованные источниками факты от надуманных построений, проследить реальную судьбу крупных замыслов и проектов, взаимодействие государственных структур и независимой от власти общественной инициативы. Развитие военной промышленности рассматривается в книге в связи с политическими и стратегическими решениями, в свете духовных традиций русской монархии.
Книга рассчитана на специалистов в области военной и экономической истории, а также на всех, кто интересуется историей российских вооруженных сил, причинами кризиса власти накануне 1917 года.
Русская военно-промышленная политика. 1914—1917. Государственные задачи и частные интересы. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приведенные наблюдения, как показало дальнейшее, отражали реалистическое понимание перемен. Сущность сдвига определил в посмертно изданной книге Шацилло. Многие авторы, писал он, «вольно или невольно считавшие себя последовательными марксистами… превращались в заурядных великодержавников, апологетов милитаризма», отстаивая задним числом претензии властителей империи на «место в “европейском концерте”» — претензии, несоразмерные военно-экономическим возможностям страны, при губительных для ее развития последствиях. Ввязываясь в войну, режим Николая II ставил перед собой невыполнимые задачи, противоречившие «нуждам и состоянию России». В своем анализе военно-экономической политики Шацилло проводил различие между «общегосударственными» интересами с точки зрения «правящей бюрократической клики» и насущными интересами большинства народа {27} 27 Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. М., 2000. С. 7–12.
.
В конечном счете после недолгой второй «оттепели» вновь наступила реакция. Пропаганда великодержавности потребовала от историографии переключиться с обоснования закономерности революции путем рассмотрения ее «социально-экономических предпосылок» — на противоположную задачу: показать, какую процветающую империю погубила беспочвенная злодейская революция. Такого рода вывернутая наизнанку конъюнктура породила истолкование событий 1914–1917 гг. под характерным политологически-полицейским углом зрения — андропологический, так сказать, подход {28} 28 См. также о «провокационном понимании истории»: Слонимский А.Г. Катастрофа русского либерализма. Душанбе, 1975. С. 199.
: революция есть «организованный активной частью контрэлиты с использованием мобилизации масс антиконституционный переворот», пишет Вяч. Никонов; все это «творят… не массы, а люди с именем и фамилией» {29} 29 Никонов В. Крушение России. 1917. М., 2011. С. 13–14.
. И адресами. Для полицейского ума наиболее привычно убеждение, что беспорядков просто так не бывает, должен быть «элитарный зачинщик», побуждающий массы к революционным действиям {30} 30 Zuckerman F.S. The Tsarist Secret Police in Russian Society, 1880–1917. London, 1996. P. 231–232.
.
Ввод новых установок сопровождался театральным осуждением прежней идеологии за недостаточное человеколюбие, поскольку она отвергала «абстрактный гуманизм». В итоге же на смену классовому и интернационалистскому (хотя бы формально) подходу пришло в качестве официального государственническое понимание «национальных интересов» {31} 31 См.: Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2010. С. 610.
. Человеколюбия от этого не прибавилось, потому что и теперь требовалось осуждать вовсе не насилие как таковое, само по себе, а лишь именно идеологию революционной гражданской («братоубийственной») войны [5] Ср. прежнее понимание «братоубийства»: «Вся Европа объята кровавым пожаром братоубийственной войны… вся печать заражена шовинизмом, разлагающе действующим на умы всего населения» (цит. по: Бас И. Большевистская печать в годы империалистической войны. М., 1939. С. 164).
. Зато всякий «абстрактный гуманизм» в отношении «неприятеля» столетней давности благополучно изжит, Первая мировая война — уже не империалистическая, а «Великая» война за «национальные интересы».
Получившая ныне законченный вид схема включает отрицание «нужды и бедствий трудящихся масс» {32} 32 Никонов В. Указ. соч. С. 550.
, [6] Однако когда надобно пнуть «психологию толпы, психологию бунта», все же оказывается, что «доведенные тяготами войны до тяжелейшего положения, низы были готовы взорваться» и радикальным партиям было на чем «спекулировать» (Там же. С. 600; Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века. М., 2012. С. 647).
вместе со всеми «объективными предпосылками» крушения царизма. Другая ее неотъемлемая часть — пропаганда бурного роста и имперского могущества. В этой связи данные, касающиеся экономической области, особенно военной промышленности, получают повышенную значимость как убедительный итоговый показатель. Такая схема предписывает утверждения о необыкновенных достижениях к 1914 г. в общеэкономическом развитии, а к 1917г. — ив снабжении вооруженных сил, о таких успехах, что «казалось, война почти выиграна» и близится дележ добычи («плодов победы»). Никонову эта «безусловная возможность» «ясно сейчас видна из нашего, исторического далека». «Шесть, максимум десять месяцев терпения, — высчитывает Б.Н. Миронов, — и Россия оказалась бы в числе стран-победительниц, а победа в войне предотвратила бы революцию и Гражданскую войну». Февральская революция произошла «в стоявшей на пороге победы Российской империи» {33} 33 Новейшая история отечества. XX век. М., 1998. С. 172 (вузовский учебник); Новейшая история России: Учебник. М., 2013. С. 4–7, 97–98; Никонов В. Указ. соч. С. 421; Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 639; Данилов О.Ю. Пролог «Великой войны» 1904–1914 гг. М, 2010. С. 258; Оськин М.В. Брусиловский прорыв. М., 2010. С. 8–9.
. [7] В книге Е.Ю. Белаша «Мифы Первой мировой» (М., 2012) одна из глав посвящена как раз преданию об «утерянных победах», упущенных вследствие «козней темных сил» (с. 215).
Перешагнуть порог помешали происки то ли масонской, то ли еврейской, то ли просто купленной («проплаченной» у одних авторов немцами, а у других одновременно и англичанами) агентуры, прикрывавшейся либеральной оппозицией и революционерами. С этим иногда удается соединить подозрение, что и само участие России в несчастной для нее войне, противоречившее ее «национальным интересам», было навязано правителям империи той же всемирной «закулисой» [8] Воспроизводится «легендарная теория, будто Россия служила орудием Англии в ее борьбе с Германией» (Нольде Б.Э. Далекое и близкое. Париж, 1930. С. 68; Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Париж, 1939. Т. 2. С. 160). На 410 страницах подобные догадки развивает О.Ю. Данилов.
.
По оценке А.В. Колчака, высказанной 25 апреля 1917 г., «свергнутый государственный строй привел нашу армию морально и материально в состояние крайне тяжелое, близкое к безвыходному». В противоположность этой оценке {34} 34 Цит. выступление Колчака в Офицерском союзе Черноморского флота и на собрании делегатов армии, флота и рабочих в Севастополе // Исторический архив. 1997. № 2. С. 26.
, дело представлено теперь так, что к 1917 г. кризис военного снабжения удалось преодолеть. По утверждению Миронова, «в 1916 г. снабжение армии… наладилось, в частности снарядный голод [был] удовлетворен… В дальнейшем войска не ощущали недостатка в вооружении». «1917 год Россия встретила на вершине военного могущества… Военно-промышленный комплекс работал на полную силу», — пишет В.Н. Виноградов. Положение в артиллерии «стало действительно неплохим. Кризис со снарядами преодолен». По заключению Ю.С. Пивоварова (и Н. Стоуна), кризиса и вообще не было: «На фронте ничего выходящего за рамки войны не произошло. И дело шло к победе… Разумеется, имелась масса проблем, все они требовали решения. Но ничего, ничего фатального, предопределенного не было и в помине. Однако грохнуло» {35} 35 Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 576, 585; Виноградов В.Н. Еще раз о новых подходах к истории Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 1995. № 5. С. 69, 70; Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию (1907–1917). М., 2003. С. 212; Пивоваров Ю.С. Русское настоящее и советское прошлое // Труды по россиеведению. М., 2011. Вып. 3. С. 42.
. К 1917 г. экономика в целом «демонстрировала многие признаки подъема», добавляет Никонов. «Голод и экономический коллапс наступят годом позже как результат деятельности постреволюционных правительств». Тогда же «стало физически не хватать» угля и металла. Не в военной разрухе корень «революционной смуты 1917 г.», полагал также Э.М. Щагин, — сама разруха, наоборот, являлась последствием «торжества деструктивного анархического начала», Февральского злокозненного подрыва той власти, что обеспечивала «нормальное функционирование» всех сфер жизни общества {36} 36 Никонов В. Указ. соч. С. 410–417, 421, 440, 594, 413, 904; Щагин Э.М. Очерки истории России, ее историографии и источниковедения (конец XIX — середина XX в.). М., 2008. С. 160–162, 495, 506, 699; Новейшая история отечества. XX век. С. 224; Новейшая история России. С. 98.
. В представлении Никонова, якобы «заканчивалась постройка» четырех дредноутов для Балтийского флота и промышленность к кампании 1917 г. обеспечила русский фронт изобилием орудий и снарядов, а сверх того «реализовывалась программа строительства предприятий». Автор указывает на знаменитую программу Главного артиллерийского управления, находившуюся к 1917 г. в начальной стадии выполнения.
Интервал:
Закладка: