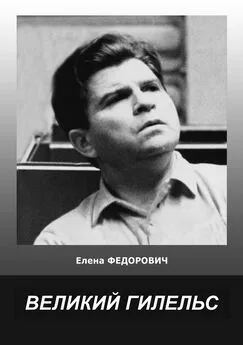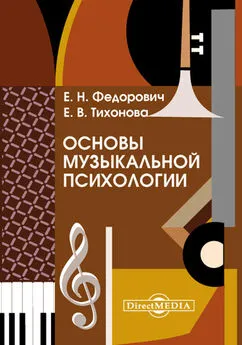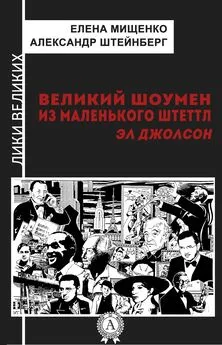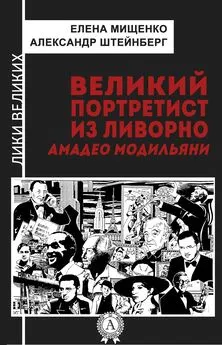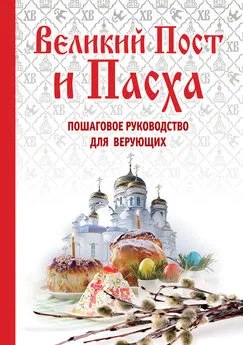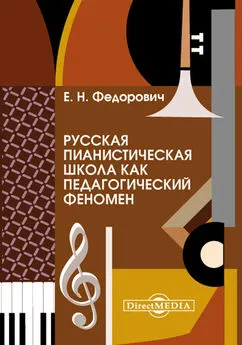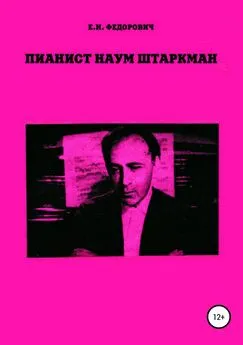Елена Федорович - Великий Гилельс
- Название:Великий Гилельс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Федорович - Великий Гилельс краткое содержание
Великий Гилельс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ну, а вопрос, почему так доставалось от Нейгауза именно Гилельсу и никому другому, достаточно ясен. Потому что Нейгауз очень любил Рихтера, буквально как сына (и Рихтер потом говорил, что считает Нейгауза своим вторым отцом); возможно, он нашел в Рихтере себя «своей мечты» или еще что-то в этом роде, но сам факт ни у кого не вызывает сомнений. А тут рядом – Гилельс, тоже его ученик, и ни в чем Рихтеру не уступающий; более того, был период, и длительный, когда Гилельс бесспорно считался «номером один», а Рихтера в это время еще никто не знал. И, конечно, Нейгауз, с его безграничным художественным кругозором, музыкальным чутьем и огромным опытом сам не мог не понимать истинный масштаб Гилельса и, следовательно, равновеликость этих двух его учеников. Поэтому для того чтобы возвеличить Рихтера, необходимо было принизить именно Гилельса.
Между тем, у многих добросовестных и не очень профессионально подкованных читателей книги и статей Нейгауза (а профессионально подкованных всегда меньше, чем остальных) вполне могла сложиться по их прочтении уверенность, что многие другие пианисты тоже играют лучше Гилельса: ведь Нейгауз ничего плохого о них не пишет, а пресса их, в общем, хвалит. А вот Гилельс… как много у него недостатков.
От всего этого даже у квалифицированных музыкантов оставалось неясное, почти подсознательное ощущение того, что в чем-то Гилельс все-таки «хуже». Рихтер – художник, а Гилельс только виртуоз. Рихтер парит в облаках, а Гилельс стоит на земле. Причем, что интересно, не только по отношению к периоду ученичества, о котором вроде бы писал Нейгауз, но и по отношению ко всему творчеству, во все периоды. Так произошла незаметная подмена – одна из многих, как мы увидим. Родился миф первый: «Гилельс – вечный ученик» .
Раз осталось у большой аудитории учеников, почитателей и просто читателей Нейгауза такое ощущение – значит, «великанов» начали сравнивать. Принято – не принято, дурной тон – не дурной, а практически все, сказав что-то об исполнении одного, обязательно стали добавлять: «А вот другой…». Восхитившись Рихтером, непременно поминали Гилельса – как, дескать, у него все это «ниже», – видимо, им казалось, что Рихтер этим еще приподнимается. Обиженные поклонники Гилельса, естественно, стали выдвигать контраргументы. Начало было положено.
В печати всего этого в советское время не было – речь идет о мнениях, разговорах, которые, однако, в музыкантской среде всегда значат очень много. «Мнения» передавались ученикам, впитывались ими. И Гилельс незаметно в неофициальной табели о рангах стал вторым. Что же хорошего, когда вечно что-то не получается? Парадоксальным образом развитию этого мифа способствовало действительно имевшее место замечательное свойство Гилельса: всю жизнь находиться в постоянном развитии, никогда не стоять на месте. То же, что это свойство присуще всем большим художникам, в том числе и Рихтеру, не акцентировалось.
Это также шло от Нейгауза: он, на самом-то деле как никто наблюдавший и знавший эволюцию Рихтера, или совсем умалчивал, или туманно намекал на то, что в начале пути у Рихтера что-то могло быть несовершенным или незрелым. «Кухню», обязательную для любого, даже самого большого художника, Нейгауз в случае с Рихтером ото всех скрыл. Как Рихтер достиг таких высот – это должно было оставаться для всех смертных загадочным, а ореол загадочности всегда приподнимает человека.
В случае же с Гилельсом, напротив, Нейгауз усердно, сверх всякой меры, раскрывал все «кухонные секреты», при этом как отмечая действительные трудности, неизбежно присутствующие на пути большого музыканта, ставящего себе грандиозные задачи, так и придумывая мнимые – достаточно вспомнить, например, его рассуждения об исполнении Гилельсом Сонаты Шопена b-moll, приведенные Г.Б. Гордоном в его статье «Импровизация на заданную тему». Вот цитируемый им фрагмент из статьи Г.Г. Нейгауза, написанной в 1938 году: «То, что мы называем пианистическим уровнем, – в этом достижение Гилельса настолько грандиозно, что совершенно ясно, что он уже сейчас один из крупных пианистов мира. Если взять исполнение Сонаты b-moll Шопена, надо сказать, что темп марша был быстрее, чем хотелось бы. Раньше он тоже играл его быстро, но потом это выровнялось, а на концерте опять всплыло. Мне вспоминаются интереснейшие занятия с Гилельсом, когда мы с ним проходили эту сонату Шопена. Технически у него все великолепно выходило. Но кое-что все-таки было не так, как хотелось бы». Комментарий Г.Б. Гордона: «Вот видите какой Гилельс: ну никак не может играть марш медленнее! И, главное, ведь уже научился, так нет! – на концерте опять всплыло! И это говорится сразу после брюссельского конкурса – в этом же году! – где Гилельс, сыграв эту сонату, вызвал настоящую сенсацию; и после того, как он – еще раньше – впервые сыграв ее в Большом зале консерватории, поднял на ноги весь зал!» 14 14 Цит. по: Гордон Г.Б. Импровизация на заданную тему. Указ. сборник. С. 203-204.
.
Придраться к чему-либо из написанного Нейгаузом, однако, трудно: в вопросах интерпретации всегда может показаться, что было что-то не так, любой музыкант имеет право на свое понимание, к примеру, темпов у Шопена, а уж Нейгауз – тем более. И сам факт того, что он щедро делился со всеми трудностями обучения Гилельса, казалось, можно было только приветствовать: вот, знаменитый педагог честно рассказывает, как он учил не менее знаменитого ученика; насколько, разумеется, это полезно всем обучающимся фортепианному искусству!
Эти двойные стандарты, заложенные Нейгаузом, перекочевали в тон и стиль критической прессы о Гилельсе и Рихтере внутри СССР, даже, можно сказать, стали их методологической базой. В статьях о Рихтере никогда не упоминалось о каких-то трудностях (и в то же время подобные упоминания есть, к примеру, в статьях и литературе о творческом пути Рахманинова, Горовица, Оборина и других великих пианистов, они вообще приняты как совершенно естественные, – в меру, разумеется). О Рихтере – нет. Даже «задним числом», что, вот, дескать, наверное, было трудно достигнуть такого качества исполнения, – даже этого практически не было. Только в настоящем времени, только как уже состоявшееся совершенство загадочного происхождения.
А литература о Гилельсе, как замечали многие, о чем в конце жизни замечательного пианиста с горечью писал Л.А. Баренбойм и позднее, еще более подробно, – Г.Б. Гордон, – почти вся шла под грифом «ему трудно, но он очень старается». Начиная с совершенно курьезных заголовков статей 1930-х гг. типа «Воспитание Эмиля» 15 15 Таково название рецензии В. Городинского (Сов. искусство, 1934, 17 февраля).
, где перефразировано название одного из хрестоматийных трудов по педагогике: Ж.-Ж. Руссо, «Эмиль, или о воспитании» (это писал не Нейгауз, но он уже и тогда был законодателем мод), кончая сформировавшейся у многих (к счастью, не у всех) советских критиков привычкой и зрелого, и даже позднего Гилельса рассматривать сквозь призму ученичества, подчеркивать, что он постоянно чего-то достигает, все никак не достигнет. Это шло красной нитью, всякое чувство меры в этом отношении было потеряно – об этом подробно и прекрасно сказано у Гордона, не стоит здесь повторять. Значительный вклад в этот миф внесла и широко известная книга С.М. Хентовой 16 16 Хентова С.М. Эмиль Гилельс. М., 1959 (1-е изд.) и 1967 (2-е изд.).
, на которой мы еще остановимся позднее.
Интервал:
Закладка: