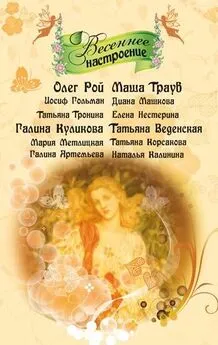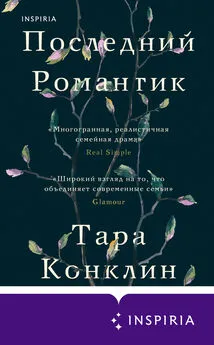Джордж Марек - Рихард Штраус. Последний романтик
- Название:Рихард Штраус. Последний романтик
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-227-01923-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордж Марек - Рихард Штраус. Последний романтик краткое содержание
Великолепная по стилю, объективности и яркости изложения биография великого немецкого композитора, дирижера и исполнителя, внесшего поистине огромный вклад в развитие мирового симфонического и оперного искусства. Автор всесторонне рассматривает творчество Р. Штрауса и увлекательно повествует о его личной жизни и знаменитых людях, с которыми пришлось встречаться известному музыканту.
Перевод: Раиса Боброва, И. Маненок.
Рихард Штраус. Последний романтик - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Роллан был погружен в мир музыки, литературы и живописи. Он опубликовал несколько биографических и критических исследований жизни и творчества композиторов и художников, в том числе работы, посвященные Микеланджело и Бетховену. Он был одной из тех свободных, чистых и восторженных натур, которыми мы можем и должны восхищаться больше из-за их помыслов, чем дел.
Он был увлеченным человеком, увлеченным красотой в любом ее проявлении, в любом искусстве, идеалистом, верящим, что возможность свободно восхищаться красотой, способность воспринимать то, что написано, нарисовано или сочинено великими людьми, приведет народы к братству. Как истинному французу, ему было присуще и чувство языка — за изысканностью и поэтичностью которого стоял большой труд по созданию собственного стиля, — и внимание к мельчайшим психологическим деталям. И хотя он был до мозга костей французом, его привлекали воззрения немцев, их «смелость» и, особенно, их музыка. Ему казалось, что спасение Европы — в объединении французской и немецкой культур, слиянии всего лучшего, что в них есть. И Роллан работал ради этой цели почти до конца своих дней. Увы! Он потерпел неудачу и понял это. Он укрылся в маленькой комнатушке в Швейцарии, почти ослепший, потерявший веру в обретение мира. [142] Он покинул Швейцарию в 1938 году, а умер в 1944 году, за месяц до своего семидесятидевятилетия.
Роллан не был великим писателем, хотя его «Жан-Кристоф», особенно первые тома, вдохновляли многих из нас в молодые годы. Ему не хватало упорства довести дело до конца, не хватало стойкости, дальновидности, что отличает великих писателей. Он был скорее аналитиком, чем писателем. Именно эта способность анализировать, оценивать, проявлять живой интерес ко всему и привлекала к нему творческих людей. Рихард Штраус хорошо все это понимал. Между этими двумя совершенно непохожими людьми завязалась дружба, которая продолжалась долгие годы, временами охладевала, но никогда не угасала. Они часто встречались, когда Штраус бывал в Париже или Роллан — в Германии. Их переписка с некоторыми перерывами продолжалась с 1899-го по 1926 год. Случались годы молчания, годы, когда их общение прерывала война. Но они вновь и вновь восстанавливали связь, поддерживая если и не близкие отношения, то, во всяком случае, основанные на взаимном уважении и симпатии. Штраус не стремился или был не способен к тесной дружбе.
Роллан, более восторженный по натуре, переоценивал музыку Штрауса. Возможно, он видел в ней средство к сближению французской и немецкой культур, чего он так страстно желал. Его оценки, высказанные скорее другом, а не критиком, бывали подчас неожиданными. Так, он считал, по крайней мере вначале, что «Домашняя симфония» — это шедевр бетховенского масштаба, «Взбитые сливки» он находил восхитительными, но «Ариадна», которую он слушал в Вене, его не вдохновила. «Жизнь героя» он предпочитал «Дон Кихоту». Сцена сражения в первом произведении была, на его взгляд, «самым поразительным сражением, изображенным средствами музыки». [143] La Revue de Paris. 15 июня 1899 года.
Хотя Роллан был поклонником творчества Штрауса, он не был слеп к недостаткам его характера и ограниченности его взглядов. Он удивлялся, как Штраус, такой интеллигентный, живой и энергичный, мог вдруг превращаться в человека, «одержимого духом вялости, покорности, иронии и безразличия». [144] Роллан Р. Переписка. Отрывки из дневника.
Роллан отчетливо понимал, что Штраус — истинный немец, несмотря на его уверения (когда ему это было выгодно), что он художник без национальных пристрастий. Штраус, по словам Роллана, был пленником северной меланхолии. И в этом он был похож на Ницше. Он стремился к южному свету, но воспринимал его через «облака и пелену немецкой полифонии». Он страдал от соприкосновения с проклятием Германии — империализмом «(как Сверхчеловек Ницше и вагнеровский Зигфрид) — политикой Бисмарка». [145] Там же.
Наиболее интересная переписка между Штраусом и Ролланом относится к периоду предполагаемой постановки «Саломеи» в Париже. Штраус попросил Роллана помочь перевести «Саломею» на французский. Роллан трудился над переводом самоотверженно. На его взгляд, существовавший французский перевод был крайне плох, провинциален, написан ненастоящим французским языком и не достоин музыки «Саломеи». Но Роллан напрасно пытался показать Штраусу разницу между настоящим поэтическим французским языком и его кухонным вариантом. Даже Оскар Уайльд, который знал оба языка и написал «Саломею» на французском, не владел, по мнению Роллана, этим языком в полной мере. Но заставить иностранца, к тому же музыканта, а не поэта, разобраться в таких тонкостях было невозможно. Однако Роллан не сдавался. Он исписывал целые страницы пояснениями и указаниями, как правильно расставить ударения. Советовал Штраусу проштудировать партитуру «Пеллеас» и изучить язык Метерлинка. Однако ни музыка Дебюсси, которую Штраус считал монотонной, ни текст не произвели на него впечатления. В конце концов Штраус потерял терпение и спросил, почему французский, на котором поют, отличается от языка, на котором говорят. И что это такое, атавизм или устаревшая традиция? Роллан, не стесняясь в выражениях, отругал его. «Вы, немцы, удивительные люди. Ничего не понимаете в нашей поэзии, совершенно ничего, однако беретесь судить о ней с непоколебимой уверенностью, думаете, мы поступаем так же во Франции? Нет. Мы не судим ваших поэтов, потому что не знаем их. Лучше ничего не знать, чем думать, что знаешь, на самом деле не зная… Человеку надо трудиться всю жизнь, чтобы познать свой родной язык. И если он будет знать его глубоко, он уже достоин величия. Бесчисленные нюансы такого языка, как французский, который является продуктом десяти веков искусства и жизни, — это те самые нюансы, которые живут в душе великого народа… Вы слишком самоуверенны сейчас в Германии, считаете, что понимаете все, и поэтому не стремитесь понять ничего. Если вы не понимаете нас, тем для вас хуже!..» [146] Письмо от 16 июля 1905 года.
Штраус все понял и ответил в примирительном тоне: «Если вы думаете, что я слишком самоуверен, вы ко мне несправедливы. Если я и горжусь нашим Рихардом Вагнером (понимаю, что для молодых французов это, наверное, смешно), я в достаточной степени ценю французскую культуру, чтобы хотеть ее понять, насколько это в моих силах, но в большей степени, чем рядовой немец…» [147] Письмо от 16 (?) 1905 года
Штраус не прекратил пользоваться советами Роллана в отношении французского языка.
«Жизнь героя» — самое горделивое оркестровое сочинение Штрауса. Вкус к жизни, мужская энергия, бесстрашно заявляющая о себе в полный голос, эротическая сила, не знающая стыдливости, — вот что представляет собой последняя крупная симфоническая поэма Штрауса, которая давала ему возможность управлять огромным оркестром, вытягивая из него все богатство звуков, управлять с уверенностью современного Калиостро. И в то же время в этой поэме есть те же недостатки, что и в «Заратустре». Они особенно заметны из-за величия темы, а также из-за того, что композитор впитал в себя дух времени, когда героическое было синонимично высокопарному.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
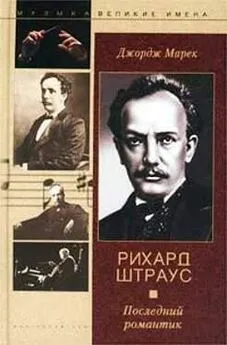
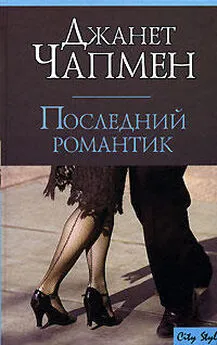
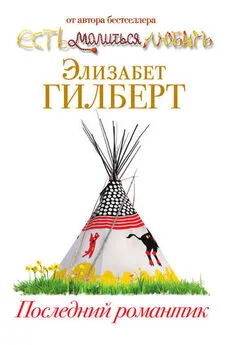

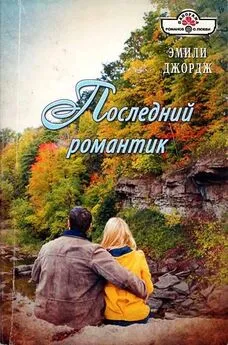
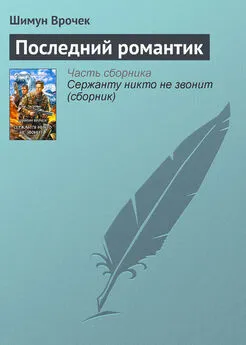
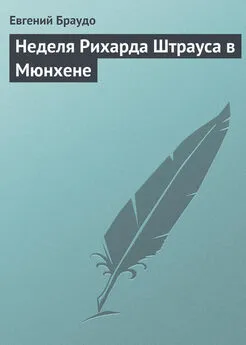
![Тара Конклин - Последний романтик [litres]](/books/1062707/tara-konklin-poslednij-romantik-litres.webp)