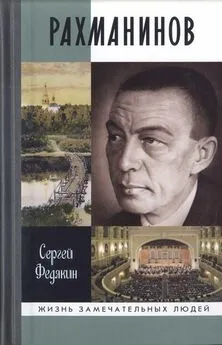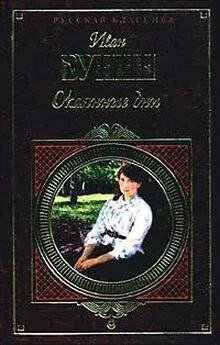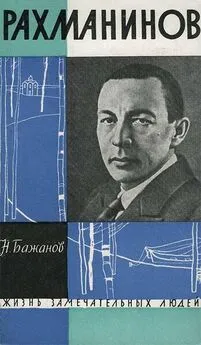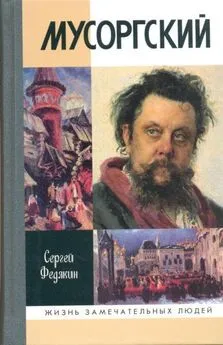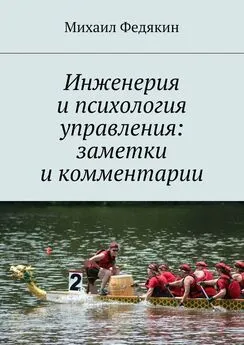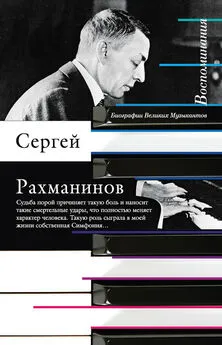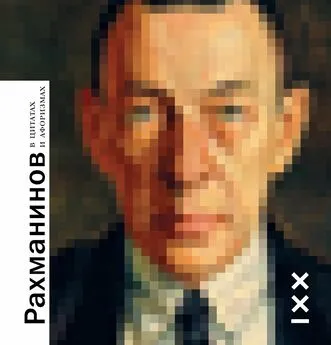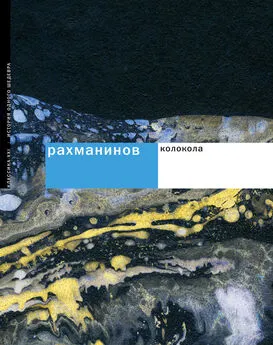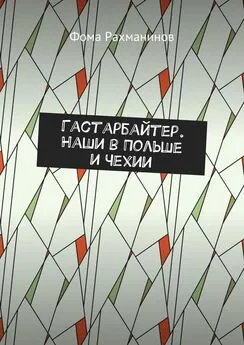Сергей Федякин - Рахманинов
- Название:Рахманинов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03695-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Федякин - Рахманинов краткое содержание
Книга о выдающемся музыканте XX века, чьё уникальное творчество (великий композитор, блестящий пианист, вдумчивый дирижёр,) давно покорило материки и народы, а громкая слава и популярность исполнительства могут соперничать лишь с мировой славой П. И. Чайковского. «Странствующий музыкант» — так с юности повторял Сергей Рахманинов. Бесприютное детство, неустроенная жизнь, скитания из дома в дом: Зверев, Сатины, временное пристанище у друзей, комнаты внаём… Те же скитания и внутри личной жизни. На чужбине он как будто напророчил сам себе знакомое поприще — стал скитальцем, странствующим музыкантом, который принёс с собой русский мелос и русскую душу, без которых не мог сочинять. Судьба отечества не могла не задевать его «заграничной жизни». Помощь русским по всему миру, посылки нуждающимся, пожертвования на оборону и Красную армию — всех благодеяний музыканта не перечислить. Но главное — музыка Рахманинова поддерживала людские души. Соединяя их в годины беды и победы, автор книги сумел ёмко и выразительно воссоздать образ музыканта и Человека с большой буквы.
знак информационной продукции 16 +
Рахманинов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Говорил и о книгах. О Чехове.
— Теперь я читаю его письма. Их шесть томов, я прочёл четыре и думаю: «Как ужасно, что осталось только два! Когда они будут прочтены, он умрёт и моё общение с ним кончится». Какой человек! Совсем больной, а думал только о других. Построил три школы, открыл в Таганроге библиотеку. Помогал направо и налево и больше всего был озабочен тем, чтобы держать это в тайне. Когда Горький хотел посвятить ему свой новый роман «Фома Гордеев», он позволил напечатать только: «Антону Павловичу Чехову». Боялся, что в горьковском посвящении будут какие-нибудь громкие эпитеты.
Припомнил и воспоминания Горького о Толстом: «Всё время наблюдал, словно фоторепортёр. В его воспоминаниях виден живой Толстой. Умел извлечь из него всё, что ему было нужно, — о религии, о жизни, обо всём».
Воспоминания приходили как вариации. Их словно можно было исполнить, перетолковывая заново — то так, то этак. Первая половина 1930-х годов и стала между двумя произведениями, где он как бы попытался что-то вспомнить. Между двумя вариациями. В 1931-м — на тему Корелли. В 1934-м — на тему Паганини.
2. От «Фолии» к «Рапсодии»
Сентябрь 1931-го. Рахманинов встречает Сванов у магазина. Они садятся в его «линкольн». В автомобиле он мог напомнить дирижёра — на авеню Елисейских Полей выезжает уверенный, спокойный, сразу направляется в самую гущу и словно вплывает в поток автомобилей. Руль держит «большой точёной рукой», в каждом движении — властность.
Клерфонтен от Парижа близко. Но место тихое. Вечером — прогулка в парке. Разговор заходит о Метнере. Николай Карлович только что написал цикл «Гимны труду». Когда Сергей Васильевич увидел ноты — сразу послал автору телеграмму: «Великолепно!»
Рахманинов начинает говорить, но будто обдумывает что-то своё. В сонатах-то Николай Карлович может затянуть разработку. Сам он, Рахманинов, теперь занят переработкой давних сочинений. Как много там лишнего!
— Соната Шопена продолжается девятнадцать минут — и в ней всё сказано.
Он переработал Первый концерт, сохранив его юношескую свежесть. Переделал и Вариации на тему Шопена.
— Сколько я делал глупостей в девятнадцать лет, просто невероятно! Все, конечно, их делают. Только Метнер с самого начала издавал такие произведения, с которыми ему трудно сравниться в более поздние годы.
Сван не мог не задать одного вопроса. И получил не только ответ. Сначала — объяснение:
— Знаете, с моими поездками, при отсутствии постоянного места жительства… Совсем нет времени сочинять. А когда я сажусь — это уже не легко, не то что в прежние годы.
Потом — путь наверх, к роялю. Сергей Васильевич сел, открыл новое: Вариации на тему Корелли. Иногда поглядывал в рукопись, многое играл по памяти. Первый его слушатель жадно впитывал звуки.
«Окончив играть, он задумался над заключительными тактами, полными грусти и покорности судьбе. Эта мрачная тема Корелли увлекла не одного композитора: Вивальди, Керубини, Лист использовали её. Но на долю Рахманинова выпало развеять тёмные чары тональности d-moll. На протяжении двенадцати вариаций он ведёт нас по извилистому лабиринту ритмических и мелодических фигур; затем обрушивается поток каденций. Играя, он сказал:
— Вся эта сумасшедшая беготня нужна для того, чтобы скрыть тему.
И из этого волнения возникает прекрасный, ослепительный Des-dur, сначала в нагромождении аккордов (четырнадцатая вариация), а потом в виде очаровательного рахманиновского ноктюрна. Но он длится недолго. Снова врывается d-moll и наконец поглощает всё. Тут Рахманинов дал нечто совсем новое. Последняя вариация (coda) не оказалась ни кульминацией, ни возвратом к началу. Она раскрывает новые перспективы, вовлекает в свою орбиту побеждённый Des-dur и завершается тихо и задушевно».
…Тема, 13 вариаций, интермеццо, ещё семь вариаций… Позже исследователи расслышат в отдельных номерах отзвуки из его собственной музыки — из «адского» вступления «Франчески да Римини», из прелюдии ре минор, из «хорального» номера Вариаций на тему Шопена. Некоторые вариации напомнят органную музыку Баха, некоторые — мрачную джазовую импровизацию [261] См.: Брянцева В. H. С. В. Рахманинов. М.: Советский композитор, 1976. С. 542.
. Современником будет названо и ещё одно «музыкальное эхо» — столь часто проступавший у Рахманинова напев «Dies irae». Впрочем, последний — с важной оговоркой: неявно выраженный и, возможно, явившийся неосознанно. Об этом Иосиф Яссер напишет в своих воспоминаниях. Тогда же, осенью 1931-го, Иосиф Самуилович попытался привлечь знаменитого композитора к работе русского музыковедческого кружка.
Их общение было эпизодическим. Кружок нужен, чтобы уяснить непростые вопросы теории, — объяснял гость, — чтобы музыканты лучше понимали свою задачу. Да и на вкусах публики, в конце концов, каким-то образом скажется. Кто-то в кружке появляется лишь иногда, кто-то — ещё не выступает, а только слушает…
— А сами-то вы, конечно, тоже принадлежите к числу докладывающих?
В вопросе Рахманинова можно уловить и нотку скепсиса. Но дальнейший разговор заставил его встрепенуться.
«— О чём же именно вы читали?
— Об основах будущей тональной системы.
— Бу-ду-щей? — переспросил с некоторым удивлением Рахманинов и при этом как-то слегка повернул голову в сторону, словно прислушиваясь к незнакомому звукосочетанию. — Что же это за система?»
Посетитель не ожидал столь резкого начала. Предпочёл ретироваться, отложив изложение своей идеи на потом. Тем более что сейчас он хотел только пригласить. Композитор непрочь услышать изложение «будущей» тональной системы, лишь досадовал: где найти время? Яссеру дорога́ эта отзывчивость. Примерещилось даже: быть может, композитор не такой уж и «консерватор»?
Рахманинова не мог не задеть этот разговор. Он видел, как современные сочинители пытаются ломать то, что устоялось. Нескончаемые новшества теснили «старомодную» музыку со всех сторон. Многим ли композиторам удавалось остаться верным традиции? Кроме него самого — Метнер (и Рахманинов его исполнял), скрипач Фриц Крейслер (и его «Радость любви», и «Муки любви» Рахманинов не только играл, но и сам переложил для одного фортепиано)… Крейслеру он посвятит свои «кореллиевские» вариации.
Их первое исполнение, 12 октября 1931 года в Монреале, не принесло композиторской славы. Публика не прониклась тем вдохновением, с которым произведение рождалось. Но скоро вариации снова приведут в его дом «теоретика» Яссера.
Иосиф Самуилович услышит их 7 ноября в Нью-Йорке. А через три дня в «Новом русском слове» появится статья «„La Folia“ Рахманинова». Прочитать, что твой опус «бесспорно займёт одно из величайших мест в фортепианной и вариационной литературе», тем более после сдержанного приёма у публики, было отрадным. Но куда интереснее был рассказ о его, Рахманинова, ошибке: «…Основная тема отнюдь не принадлежит Корелли, а лишь использована последним в его знаменитой „Folies d’Espagne“ наряду со многими другими (до и после него жившими) композиторами».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: