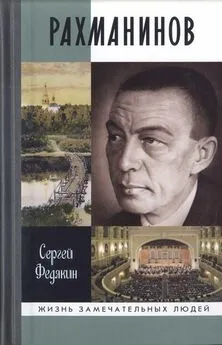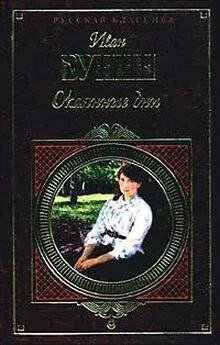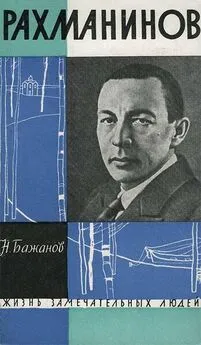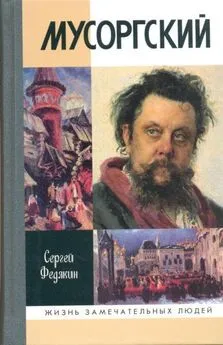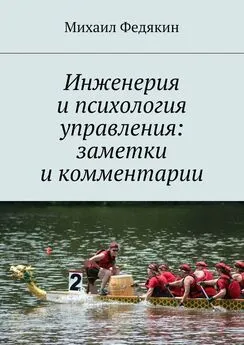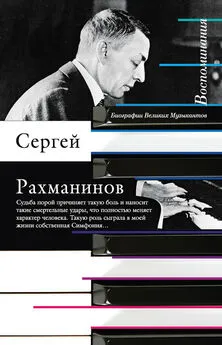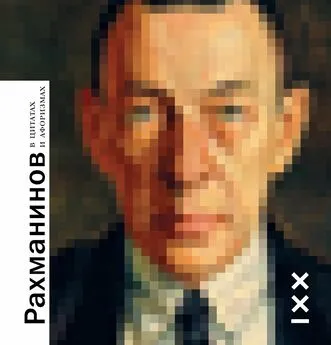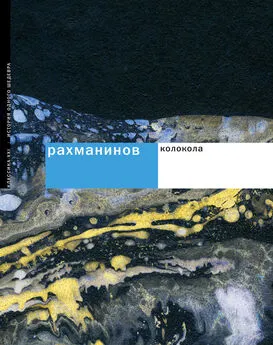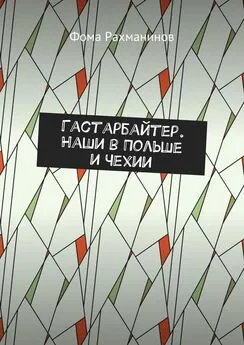Сергей Федякин - Рахманинов
- Название:Рахманинов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03695-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Федякин - Рахманинов краткое содержание
Книга о выдающемся музыканте XX века, чьё уникальное творчество (великий композитор, блестящий пианист, вдумчивый дирижёр,) давно покорило материки и народы, а громкая слава и популярность исполнительства могут соперничать лишь с мировой славой П. И. Чайковского. «Странствующий музыкант» — так с юности повторял Сергей Рахманинов. Бесприютное детство, неустроенная жизнь, скитания из дома в дом: Зверев, Сатины, временное пристанище у друзей, комнаты внаём… Те же скитания и внутри личной жизни. На чужбине он как будто напророчил сам себе знакомое поприще — стал скитальцем, странствующим музыкантом, который принёс с собой русский мелос и русскую душу, без которых не мог сочинять. Судьба отечества не могла не задевать его «заграничной жизни». Помощь русским по всему миру, посылки нуждающимся, пожертвования на оборону и Красную армию — всех благодеяний музыканта не перечислить. Но главное — музыка Рахманинова поддерживала людские души. Соединяя их в годины беды и победы, автор книги сумел ёмко и выразительно воссоздать образ музыканта и Человека с большой буквы.
знак информационной продукции 16 +
Рахманинов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Любопытно было узнать, что эта трёхдольная тема, «испанские безумства», пришла из Португалии. Народный танец был до крайности оригинален: мужчины в женских одеждах под воздействием собственных жестов и грома тамбуринов впадали в экстаз и казались помешанными. Тема «устоялась» не сразу, но в простонародье была популярна до умопомрачения. Неотвязно притягивала и композиторов.
«Folies d’Espagne», «испанские безумства»… Кто только не прикасался к ним! Яссер и сам назвал далеко не всех. А список композиторов был, пожалуй, более «безумным», нежели эта простая и мрачноватая мелодия: Арканджело Корелли, Марен Марэ, Антонио Вивальди, Алессандро Скарлатти, Иоганн Маттезон, Франческо Джеминиани, Жан Батист Люлли, Иоганн Себастьян Бах, Карл Филипп Эмануэль Бах, Джованни Баттиста Перголези, Луиджи Керубини, Антонио Сальери, Фернандо Сор, Ференц Лист, Никколо Паганини… А до них — Диего Ортис, Антонио де Кабесон, Джироламо Фрескобальди, Никола́ Пиччинини, Андреа Фальконьери, Иоганн Иеронимус Капсбергер и многие, многие другие. Около полусотни композиторов чуть ли не с болезненной настойчивостью обращаются к одному и тому же, довольно простому напеву.
Приглашение автора рецензии в дом композитора после такого исторического экскурса было почти неизбежным.
«— Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за отзыв и за указание на мой промах. Однако… мне здесь не совсем ясна одна подробность.
— Какая же именно?
— Вот вы тут пишете, — вслух вычитывал Сергей Васильевич из газеты отдельные строки, передавая их частично своими словами, — что эта народная тема имела вначале несколько иное мелодическое строение и т. д… но что в своей окончательной редакции она была… уже использована некоторыми композиторами XVII века… между тем как первое издание вариаций Корелли появилось лишь в 1700 году, то есть в самом начале XVIII, — так ведь?»
Композитор хотел понять, насколько «Фолия» у Корелли могла отличаться от других. Теоретик заметил: разве что в мелочах. Признал: именно Арканджело Корелли дал популярность теме, и композитор в названии его имя оставил.
Экскурс в «Фолию» мог бы ещё усложниться. Когда историки музыки вкопаются в старинные рукописи, обнаружат, что поначалу «фолий» было несколько. Что из многих вариантов один, возможно ещё и видоизменившись, вытеснил остальные. Изначально мажорная музыка к XVII веку «оминорилась», сблизилась с сумрачной сарабандой. Стала притягивать музыкантов, как притягивает слух простого человека магическое заклинание. Рахманинов не просто «подхватил» традицию. Он сквозь кореллиевский вариант словно бы ухватил эту стародавнюю историю, даже не подозревая о ней. Ранние вариации «фолии» — проще, нежели её воплощения у Керубини или Листа. Рахманинов провёл старинную тему через все концертные «соблазны». Точно почувствовал, где наплыв одной вариации на другую себя «исчерпывает». Поставил «интермеццо», тоже вполне «фолиевское», но подобное «вздоху» перед новыми испытаниями старинной темы, проводя её через самые невероятные воплощения («Вся эта сумасшедшая беготня нужна для того, чтобы скрыть тему»).
Финал вариаций изумлял своей открытостью. Здесь не было той «жирной точки» в конце произведения, к которой приучил XIX век. Композитор подвёл музыку к какому-то рубежу, к «пьяно», за которым возможно продолжение. И если после финала заиграть его вариации с самого начала, с темы, то всё многоцветье опуса № 42 будет восприниматься как прелюдия… — к «фолии».
Вариации действительно вобрали многообразные «эхо» его собственных сочинений. Вобрали и отголоски мировой музыки, от Баха до джаза. И вся разноликость темы говорила об одном. Сочинение Рахманинова на самом деле стало воспоминаниями — о собственной музыке и о музыке мировой. Здесь прошлое живёт в настоящем, словно бы напомнив столь простое, незыблемое: всё проходит — и всё остаётся.
Через несколько лет что-то подобное почувствует герой из рассказа «Круг» Владимира Набокова: «Вдруг Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накопляются сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли, — и вот кто-то проезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет».
С момента появления «фолии» — XIV или XV век — прошло несколько столетий. С момента её «воцарения» в музыке — лет триста. И вот — современный композитор «потребовал книгу». Старинная «фолия» зазвучала вновь. И сколь ни была «цветиста» и разнообразна современность, сквозь неё проступил лик далёкого прошлого.
Живая музыка — и рядом теория пополам с историей. Диалог неожиданный, странный тем, что на мгновение совместилось несовместимое. Иосифа Яссера волнуют гармонические основы музыки, их перестроение во времени. Музыка прошлого, музыка других народов, музыка будущего… Сюда, к будущему, тянется умом теоретик. Здесь он пытается убедить композитора в неизбежности гармонических изменений. С ним — нотные таблицы, акустические диаграммы. Рахманинов внимательно смотрит…
— Быть может, я бы и переменил своё мнение, если б мог реально прослушать вашу новую девятнадцатитоновую гамму; но ведь вы и сами оговорились, что производящих её инструментов пока что нет и что даже вся ваша теория требует ещё долгой опытной проверки. Что же касается музыкальной эволюции…
И в речи затрепетало живое чувство, хотя слова вроде бы следовали только логике. Да, против эволюции вряд ли что возразишь, разве что идёт она медленнее. И смена тональных систем идёт незаметнее.
«— Вы, вероятно, знаете, как Сергей Иванович Танеев любил изображать различные стадии музыкальной эволюции?
Я ответил отрицательно.
— Нет? — переспросил Сергей Васильевич с долей удивления. — Тогда стоит показать!
Он с готовностью сел за рояль, сыграл несколько тактов какого-то банального венского вальса и, широко улыбаясь, сказал:
— Это вот, по Танееву, означало первую стадию эволюции. „А это, — говорил Сергей Иванович, — вторая стадия (Рахманинов повторил те же такты) и наконец, — заканчивал Танеев по обыкновению, — вот вам, пожалуйста, третья стадия!“ (Рахманинов снова сыграл те же такты)».
Яссер готов оценить «танеевскую» шутку, но захвачен совсем иным. Рахманинов трижды играет один и тот же пустячок, но каждый раз — с едва заметным изменением, которое невозможно схватить нотами, но которое и есть самая сердце-вина музыки.
Теоретик чертит схемы, приводит логические доказательства. Композитор трижды играет то же самое, лишь едва-едва меняя характер самого исполнения. Первый рассуждает «от ума». Второй — от сердца. И чего стоят выкладки, если живое чуть-чуть — даже как простейший пример — звучит выразительнее, а потому и убедительнее?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: