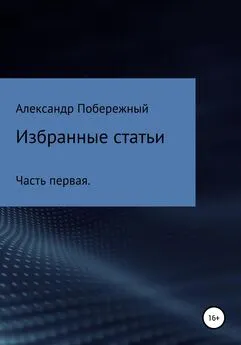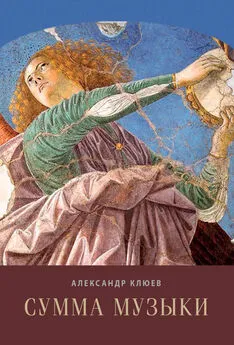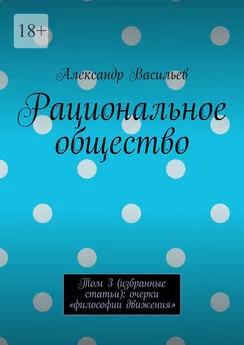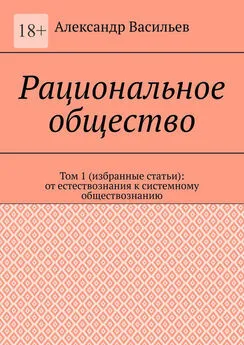Александр Клюев - Философия музыки. Избранные статьи и материалы
- Название:Философия музыки. Избранные статьи и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Астерион»
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94856-499-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Клюев - Философия музыки. Избранные статьи и материалы краткое содержание
Предназначено студентам средних и высших музыкальных учебных заведений, изучающим философские (методологические) вопросы музыкознания, а также всем тем, кого интересует философская проблематика музыки.
Философия музыки. Избранные статьи и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для второго подхода, в определенном смысле наследующего идеи «ученого мира», прежде всего И. Кеплера, характерно обращение к данной теме (причем преимущественно в контексте специального исследования «гармонии сфер») с позиции современного научного знания. Например, Д. Годвин, один из сторонников данной точки зрения, пишет о том, что в наше время, когда «физики усомнились в предположениях своих предшественников» (отсутствуют взаимообратимость массы и энергии, времени и пространства, влияние субъекта на объективный эксперимент), когда «единственной достоверностью остается концепция универсальной периодической вибрации», т. е. когда «мы обитаем уже не в мире Декарта или Ньютона, но, скорее, – в универсуме Иоганна Кеплера, вполне естественным оказывается “возрождение спекулятивной музыки”». [76] Godwin I. The Revival of Speculative Music // The Musical Quarterly. 1982. Vо1. 68. No 3. Р. 374.
По существу о том же пишет отечественная исследовательница Л.Г. Бергер, которая полагает, что в настоящее время физики-теоретики и астрофизики доказали, что ведущее значение в формировании структур Вселенной принадлежит гармоническим звуковым волнам, т. е. имеющим постоянную частоту колебаний, воспринимаемым нами как звуки определенной, постоянной высоты, «которые и служат основным материалом искусства музыки…». [77] Бергер Л.Г. Звук и музыка в контексте современной науки и в древних космических представлениях: пространственный образ как модель художественного стиля. Тбилиси, 1989. С. 9-10. – В связи с этим суждением обращает на себя внимание мысль, высказанная П. Хиндемитом. «Беседуя с физиками, биологами и другими учеными, – подчеркивал композитор, – можно не переставать удивляться тому, до какой степени они оперируют построениями, аналогичными музыкальному творчеству». Анализ этих построений «приводит нас к убеждению, что есть некоторые основания в древней идее о Вселенной, регулируемой музыкальными законами, или, если выразиться более скромно, Вселенной, законы строения и движения которой дополняются своим духовным отражением в музыкальных организмах». ( Hindemith P. A composer’s world: horizons and limitations. Cambridge, 1953. Р. 101-102). В свете сказанного неудивительно появление с начала ХХ в. огромного количества музыкальных произведений («музыкальных организмов»), отражающих вселенскую гармонию: «Гармония мира» П. Хиндемита, «Учение о гармонии» Дж. Адамса, «Вселенная» Ч. Айвза, «Макрокосмос» Дж. Крама, «От каньонов к звездам» О. Мессиана, «Атмосферы» Д. Лигети, «Звучащее пространство» В. Лютославского, «Перцепция» С. Губайдулиной и многие другие.
Развитие взглядов на музыку как «гармонию сфер» в XX столетии, с точки зрения двух отмеченных подходов, бесспорно, явилось важной вехой дальнейшего становления осмысляемой нами идеи постижения музыкального искусства. [78]
Итак, мы проследили динамику движения первого, в нашем понимании, мотива онтологического исследования музыки – интерпретацию музыки как «образа» мировой гармонии. Обратимся теперь ко второму: истолкованию музыки как «овеществления» лежащих в основании мира единиц математического исчисления.
Что касается второго мотива (напомним, что каждый из рассматриваемых здесь мотивов изучения музыки базируется на понятии числа), то, вероятно, его источником, так же как и первого, надо считать идеи Пифагора и пифагорейцев, в частности, их мысль о значении священного для них числа «10». Такой вывод можно сделать на основании утверждения пифагорейцев о том, что все числовые параметры движения планет или, что, по мнению пифагорейцев, одно и то же – «гармонии сфер» являются производными от числа «10»: количества планет. В связи с этим нельзя не согласиться с А.Ф. Лосевым, подчеркивавшим, что представления пифагорейцев о числовых закономерностях «гармонии сфер» (а значит, и музыки) были обусловлены размышлениями последних о «жизни» «основных космических тел, издающих при своем движении определенного рода тоны с гармоническим сочетанием этих тонов в одно прекрасное и вечное целое». [79]
Подлинный же расцвет суждения о музыке как «овеществлении» лежащих в основании мира чисел, в силу особой роли утверждаемой в это время числовой символики, приходится на эпоху европейского (западного) средневековья (кстати, здесь же, в эту эпоху, оно практически и «угасает», в некотором смысле сохраняясь в дальнейшем лишь в специальных теологических учениях, где, по сути, не получает серьезного развития). [80]
В самом общем виде указанное представление о музыке в это время получило разработку у Аврелия Августина.
В книге VI своего сочинения «О музыке» Августин различает пять видов чисел, проявляющихся в музыке: 1) звучащие (sonantes), находящиеся в самих звуках, независимо от того, слышит их кто-нибудь или нет; 2) числа, находящиеся в сознании воспринимающего (occursores); 3) числа движущиеся (progressores), т. е. воспроизводимые в воображении даже в отсутствии реального звучания и восприятия; 4) числа, хранимые памятью (recordabiles) – о которых мы не вспоминаем, но которые позволяют нам узнавать услышанную ранее мелодию; 5) числа судящие (judiciales) – те, благодаря которым бессознательно оцениваются все остальные числа с точки зрения их «приятности» и «неприятности» (любопытно, что при этом Августин отмечает способность восприятия данных чисел и у животных: птиц, млекопитающих и т. д.). [81]
Необходимо отметить, что в эпоху западноевропейского средневековья (у различных мыслителей, теоретиков) существовали представления и о конкретных числах в их связи с музыкой, где эти числа означали: «1» – музыку как целое; «2» – деление музыки на небесную (естественную) и земную («порожденную» человеком, т. е. инструментальную и вокальную); «3» – начало, середину и конец музыкального произведения; «4» – количество нотных линеек; «7» – мистическую связь музыки со Вселенной и т. д. [82]
Что касается третьего мотива изучения музыки в рамках понимания музыкального искусства как модели мироздания – осознания музыки в качестве специфического средства измерения динамики становления мира, то он, так же как и рассмотренные нами выше первые два, впервые наблюдается уже у пифагорейцев. Сказанное подтверждает то, что пифагорейцы, трактуя число в качестве основания уподобления музыки миру, мирозданию (см. об этом выше), понимали такое число как число становящееся. Мысль пифагорейцев о подобии музыки мирозданию, обусловленном становящимся числом, на наш взгляд, прекрасно раскрывает следующее утверждение А.Ф. Лосева: «Эстетическая сущность музыки, – пишет ученый, – заключается у пифагорейцев не в чем ином, как в числовом становлении пластического предмета (каковым является прежде всего космос в целом, а затем и все входящие в него вещи)». [83]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: