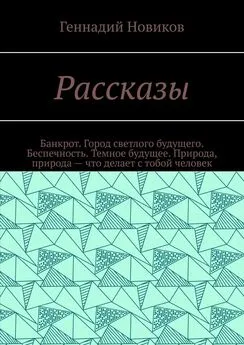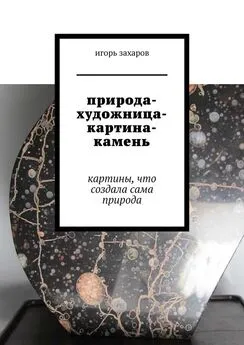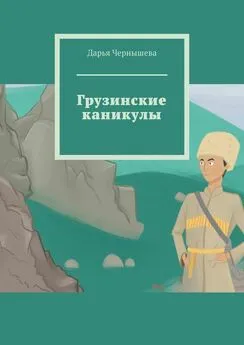Т Чернышева - Природа фантастики
- Название:Природа фантастики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Т Чернышева - Природа фантастики краткое содержание
Природа фантастики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Образы сказки и образы прошлых суеверий перед судом аналитической мысли были равны, резкое различие, существовавшее между ними ранее, теперь сгладилось, а это привело к сближению двух типов повествований в фантастике. От прежней же их суверенности остались две противоположные тенденции в отношении к фантастическому вымыслу: с одной стороны, стремление к безудержному вымыслу, с другой - желание ограничить его, соблюсти в самом вымысле строгую меру.
Иенские романтики воспринимали сказку как предельно артистическую модель, где царит подлинная природная анархия и отрицается закономерная связь (Новалис). Те же черты отмечает в восточных и фейных сказках В. Скотт, только он относится к ним не столь тепло и пишет о "нелепости вымысла", "бессвязности и отсутствии общего смысла"96. В. Скотт поэтому говорит о необходимом чувстве меры при обращении художника со сверхъестественными явлениями, поскольку интерес к ним "легко оскудевает при неумелом подходе и назойливом повторении"97. И далее: "Воображение читателя следует возбуждать, по возможности не доводя его до пресыщения", и только "первое соприкосновение со сверхъестественным производит наиболее сильный эффект, тогда как в дальнейшем, при повторении подобных эпизодов, впечатление скорей ослабевает и блекнет, нежели усиливается"98.
Эти советы В. Скотта как две капли воды напоминают рекомендации Г. Уэллса, противопоставлявшего художественную модель одной посылки сказочной неуемности в вымысле. Таким образом, сближение двух типов повествований в фантастике, проистекающее из тематической их общности, поскольку сказочный вымысел и сверхъестественное явление стали практически равноправны, не было все же абсолютным, силы притяжения действовали одновременно с силами отталкивания, а впоследствии, при формировании новой системы фантастической образности, пути двух типов повествования снова разойдутся. И все же это сближение позволило им обменяться не только тематическими мотивами, но и структурными особенностями: сказочная бесконтрольность, перегрузка вымыслом проникают в рассказ о необычайном, ужас, идущий от традиций суеверного рассказа и характерный для повествования о необычайном, тематически связанным со сверхъестественным (а другого рассказа о необычайном эпоха романтизма практически не знала), переходит в сказку. То же можно сказать и о системе "доказательств" и "свидетельских показаний".
"Доказательства" были необходимым элементом структуры суеверного рассказа и религиозной легенды о чудесах, там они подтверждали эмпирический факт, свершившееся чудо. С течением времени они превращаются в чистейшую художественную условность и становятся непременным атрибутом практически всякого фантастического повествования. Мы встречаемся с ними и в литературной сказке, и в рассказе о необычайном, и даже в откровенно условном иносказательном или сатирическом произведении, использующем фантастику.
Это могут быть мистифицирующие предисловия или послесловия, вроде тех, которыми снабжены "Замок Отранто" Г. Уолпола и "Эликсир дьявола" Э. Т. Гофмана. Г. Уолпол создает в предисловии полную иллюзию исследования подлинного текста: строит догадки о времени его написания и авторе, а затем высказывает предположение, что "в основе повести лежат какие-то подлинные происшествия". И Э. Т. Гофман предисловием и послесловием доказывает, что брат Медард - реальное лицо.
В фантастических произведениях романтиков самых различных ориентации множество "вещественных доказательств". Находим мы их в новеллах Гофмана и Тика, в произведениях русских и американских романтиков,. в новеллах Н. Готорна, например.
Змея в груди Родриха Элистона ("Эготизм, или змея в груди") - образ явно и откровенно иносказательный,. аллегорический, смысл аллегории раскрывается и названием новеллы, и дополнительно разъясняется в тексте. Эта змея - эгоизм Элистона. Сам герой говорит, что "выкормил ее болезненной своей поглощенностью самим собой"99, и избавляется он от нее в тот момент, когда обращается мыслью к другому человеку, отвлекается от своих страданий. И все же автор доказывает, что змея, поселившаяся в груди героя, вполне реальна, и в момент выздоровления своего друга скульптор Херкимер "заметил какое-то волнообразное движение в траве и услышал громкий плеск, будто что-то вдруг плюхнулось в водоем"100.
То же и в новелле-сказке "Снегурочка". Снежная девочка оживлена поэтическим воображением детей, но она представляется живой и их родителям. Когда же ее водворяют у камина, от нее остается кучка снега, а затем лужа, которую вытирают обыкновенной тряпкой.
Разумеется, эти доказательства и заверения свидетелей вовсе не рассчитаны на то, чтобы читатель воспринял их буквально. Они выполняли задачу чисто художественную, а не мировоззренческую. Вот почему уже в период романтизма главным "доказательством" становится яркость, четкость изображения необычайного, фантастического, невероятного и невозможного явления, та самая достоверность невероятного, которую Н. Я. Берковский в связи с новеллой Г. Клейста "Локарнская нищенка" назвал "парадоксальным" или "мнимым" реализмом101. Впоследствии, в научной фантастике, прямые доказательства будут играть все меньшую роль, а "мнимый реализм", реакция героя - все большую.
Но в эпоху романтизма в фантастике начинает формироваться новое средство создания иллюзии, которое в противовес "доказательствам" можно назвать "объяснениями" и которому предстояло занять ведущее место в научной фантастике. Если быть точным, средством создания иллюзии "объяснения" станут позднее, уже при переходе к новой системе фантастических образов, в романтическом искусстве они не создавали иллюзии, а разрушали ее, но появление их было совершенно необходимо. И рождение "объяснений" связано со своеобразной сменой ориентации.
Дело в том, что "доказательства" еще в средневековой литературе, а затем, по традиции (но уже художественной традиции), у гуманистов эпохи Возрождения и в более поздние времена обращены были не к разуму, а к чувству, они должны были подействовать в первую очередь на воображение, возбудить эмоции, а не дать толчок аналитической мысли. Доказательства свершившегося чуда заставляли поверить в него эмоционально, а не рассудочно. "Доказательств" средневековому человеку было вполне достаточно, даже в гносеологическом плане, поскольку не только обыденное сознание, но и наука тех времен была под властью эмпиризма, в плену "чистого опыта"102. Тенденции же рационалистической, аналитической мысли были неразвиты, заглушены.
Однако эпоха Возрождения многое изменила в этом плане, дав резкий толчок развитию рационалистического мышления, и позиции рационализма укрепились во времена Просвещения. Еще В. Шекспир устами одного из своих героев провозгласил новый принцип ориентации человека в мире:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

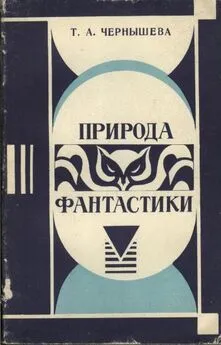
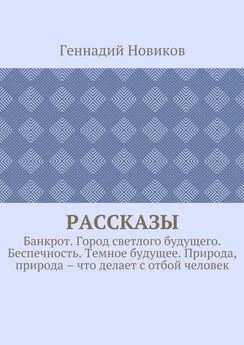
![Наталья Чернышева - Дочь княжеская. Книга 2. Часть 2 [СИ]](/books/1065447/natalya-chernysheva-doch-knyazheskaya-kniga-2-chast-2.webp)