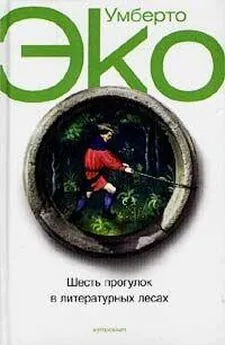Умберто Эко - Шесть прогулок в лесах
- Название:Шесть прогулок в лесах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Умберто Эко - Шесть прогулок в лесах краткое содержание
Эта книга — шесть лекций, прочитанных У.Эко в Гарвардском университете в 1994 году. Приводится по изданию: У.Эко. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб, 2002. Перевод с английского А.Глебовской. В квадратных скобках указаны страницы по этому изданию. Примечания авторские, но здесь приводятся не все, а только те, в которых есть суждения У.Эко. Рисунки, на которые ссылается автор, см. в конце документа.
Шесть прогулок в лесах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Утверждают также, что искусственное повествование можно распознать благодаря тому, что оно структурно сложнее естественного. Однако любые попытки формализовать структурные различия между искусственным и естественным повествованиями, как правило, заходят в тупик из-за обилия контрпримеров. Так, мы можем определить художественную прозу как повествование, в котором персонажи совершают действия или подвергаются воздействиям, причем эти действия и воздействия видоизменяют состояние персонажа от исходного к конечному. Однако то же самое определение подходит и к любой истории, серьезной и правдивой, к примеру: «Вчера вечером я зверски проголодался. Я пошел [230] ужинать. Я съел бифштекс и омара, и мне стало хорошо».
Можно, конечно, сказать, что действия в реальной истории труднее, чем в литературной, и ставят нас перед необходимостью мучительного и непредсказуемого выбора; впрочем, я уверен, что Джером К. Джером сумел бы передать во всех красках, как он делал мучительный выбор между бифштексом и омаром и с каким блеском вышел из этого испытания. Можно сказать обратное: что литература сложнее жизни. Но дилеммы, которые приходится разрешать персонажам «Улисса», более мучительны, чем те, которые встают перед нами в повседневной жизни. Правила Аристотеля (согласно которым персонаж должен быть не лучше и не хуже нас, должен переживать неожиданные разоблачения и терпеть прихоти рока до той самой точки, когда действие достигнет развязки, за которой последует катарсис) тоже не дают точного определения художественной литературы: многие «Жизнеописания» Плутарха отвечают всем Аристотелевым требованиям.
Может быть, литературность проявляется в не подлежащих проверке деталях, [231] передаче психологии и чувств героев? Ролан Барт, рассуждая о «реалистических приемах» в литературе, цитирует фрагмент из «Истории Франции» Мишле (Том 5, «Революция», 1869), где автор пользуется этим литературным приемом — непроверяемой деталью — описывая Шарлотту Корде в заключении: «Через полтора часа в дверцу за ее спиной тихо постучали».
Что же касается эксплицитных вводных сигналов «литературности», их, понятное дело, никогда не бывает в начале естественного повествования. Так, несмотря на название, «Правдивая история» Лукиана из Самосаты должна восприниматься как вымысел, поскольку во втором абзаце автор недвусмысленно заявляет: «Я собрал всевозможные бредни под маской правды и достоверности». Генри Филдинг начинает «Тома Джонса» предупреждением к читателю, что тот держит в руках роман. Другой типичный показатель литературности — это притворные притязания на хроникальность. Сравните два зачина:
Справедливые и настойчивые просьбы многомудрых братьев сподвигли меня… задаться вопросом, почему никто днесь не пишет [232] летописей, ни в какой литературной форме, дабы могли мы передать нашим потомкам рассказ о многих событиях, каковые имели место как в Господних храмах, так и промеж людей, событий, которые заслуживают того, чтобы о них знали.
Никогда величие и галантность не сияли во Франции столь ярко, как в последние годы правления Генриха П.
Первый отрывок — начало «Истории наших времен» Рауля Глобера; второй — из «Принцессы Клевской» мадам де Лафайет. Следует отметить, что второй отрывок занимает многие страницы и только потом читателю открывается, что он имеет дело с зачином романа, а не хроники.
16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька…» (…)В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV в., разысканной в библиотеке…
Говорят, что однажды Цезарь увидал в Риме, как какие-то богатые иностранцы носили за пазухой щенят и маленьких обезьян и ласкали их. Он спросил их, разве у них женщины не родят детей?
[233] Второй зачин, очень напоминающий литературу, — начало Плутархова жизнеописания Перикла, а первый открывает мой роман «Имя розы».
Если какая история человеческой жизни и стоит того, чтобы предать ее гласности и не усомниться в ней по опубликовании, то именно та, которую издатель представляет вам в этой книге. Удивительные приключения этого человека (по мнению издателя) затмевают все, что было известно доныне… Издатель убежден, что история эта — правдивое изложение фактов; в ней не замечено ни тени вымысла.
Да не посетуют наши читатели, что мы воспользуемся этой возможностью и бегло набросаем портрет величайшего из королей, которые восходили в новые времена по праву рождения на трон. Опасаемся лишь, что нам не удастся сжать столь долгую и насыщенную историю до тех пределов, которые мы себе отвели.
Первый отрывок — начало «Робинзона Крузо». Второй — зачин эссе Маколея о Фридрихе Великом.
Я не имею права начать рассказ о событиях моей жизни без того, чтобы упомянуть добрых моих родителей: их душевные качества и [234] их любовь оказали огромное влияние на мое развитие и мое благополучие.
Хотя я не склонен, даже сидя у камелька в тесном кругу друзей, распространяться о своей персоне и о своих делах, все же, пожалуй, не так уж странно, что у меня дважды появлялся автобиографический зуд, понуждая обратиться к публике от собственного лица.
Первый абзац — начало мемуаров Джузеппе Гарибальди; второй — из «Алой буквы» Натаниэля Готорна.
Существуют, разумеется, и совершенно внятные сигналы литературности — например, начало in medias res [11] с главного (лат.).
, открывающий текст диалог, заявление, что речь пойдет об индивидуальной, а не общей истории, и прежде всего — ироничный комментарий к зачину, как в романе Роберта Музиля «Человек без свойств», который начинается с длинного описания погоды, начиненного специальными терминами:
Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его [235] с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой…
Музиль продолжает в таком духе с полстраницы, а потом замечает:
Короче говоря, — и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты, — стоял прекрасный августовский день 1913 года.
Однако достаточно найти хотя бы одно литературное произведение, лишенное всех этих черт (а на деле примеров можно набрать десятки), чтобы опровергнуть сказанное и прийти к выводу, что неоспоримых признаков литературности попросту не существует, существуют только паратекстуальные признаки.
Это значит, что довольно часто происходит следующее: мы не вступаем в вымышленный мир по собственному почину; мы случайно оказываемся в его пределах. Через какое-то время мы начинаем это понимать и приходим к выводу, что происходящее с нами — сон. Говоря словами Новалиса: «Если вам снится, что вы спите, вы на грани пробуждения». Однако это состояние [236] полусна — в котором оказывается рассказчик «Сильвии» — ставит перед нами многочисленные проблемы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: