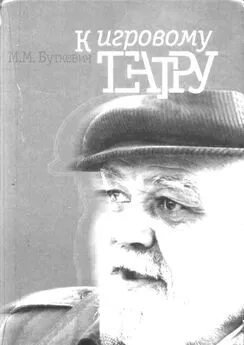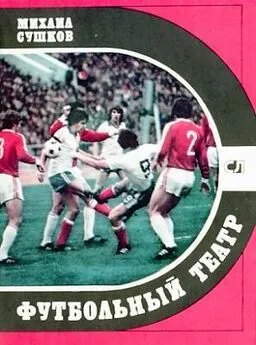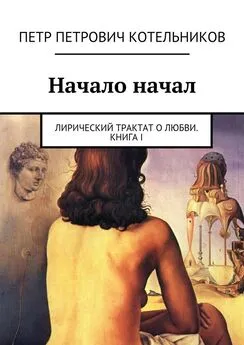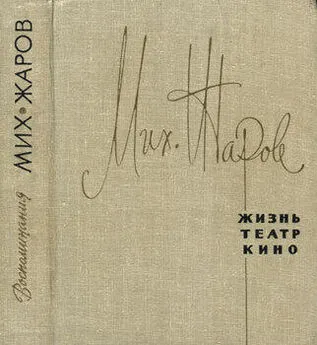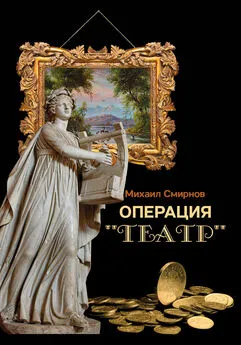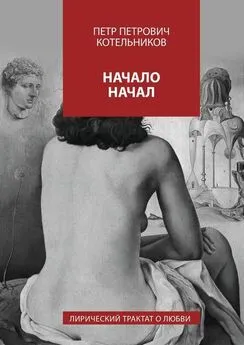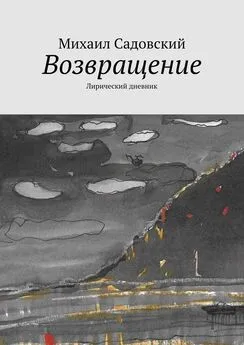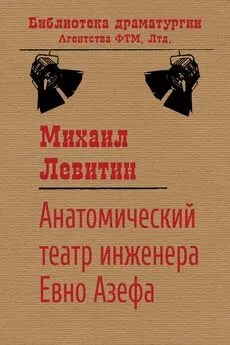Михаил Буткевич - К игровому театру. Лирический трактат
- Название:К игровому театру. Лирический трактат
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ГИТИС
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-7196-0257-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Буткевич - К игровому театру. Лирический трактат краткое содержание
В книге "К игровому театру" читатель найдет продуманную до мелочей современную систему профессионального обучения режиссера в театральной школе. В то же время она причудливо и органично сочетает в себе мемуары, анализ "Макбета", "Трех сестер", описание спектаклей маститых режиссеров и учебных работ. Читать книгу будет интересно не только специалистам, но и тем, кого волнуют пути развития русского театра, русской культуры XXI века.
К игровому театру. Лирический трактат - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Герой.Чем больше я слушаю об этом необычном спектакле, тем более привлекательным становится он для меня, но и тем большим становится сомнение, переходящее в уверенность: не знаю, как мои товарищи, а я не гожусь, как артист, для такого представления. Тут нужны выдающиеся актеры.
Я. Я тоже ведь не первых попавшихся с улицы позвал.
Герой. Я повторяю: тут нужны выдающиеся артисты.
Я. Вы правы, и правда такова: в ситуации нашего спектакля могут играть только очень большие актеры (в крайнем выражении — только великие: Мочалов, Ермолова, М. А. Чехов, Комиссаржевская). Признав это, нам следует разойтись. Но, к счастью, действительна и обратная формула. Игровая ситуация в таком спектакле, пропуская артистов через свою мясорубку, делает и обычных актеров (извините меня, пожалуйста) актерами очень крупными. Примерами могут служить лучшие спектакли Васильева и Эфроса.
Актер. Спасибо за откровенность.
Наступает долгая пауза, настолько томительная и страшная, что даже я не могу прервать ее. Солнце склоняется к западу. Родители и прародители выводят из парка чад. На выход трусцою пробегает мимо нас один отставник в синем шерстяном тренировочном костюме, другой, третий, а мы все молчим.
Я набираю полные легкие воздуха и говорю почти что равнодушно:
— Ну что, расходимся?
Артист. Пожалуй, да.
Герой. Наш главный режиссер уходит в театр Пушкина. Зовет меня с собой. Никак не пойму, идти мне с ним или не нужно.
Артист. А меня никто никуда не зовет.
Артистка. Я тоже никому не нужна. Разве что собственному сыну. Да и то, по-моему, не очень. Так чуть-чуть, для нежности.
Герой. А вы куда, Михаил Михайлович?
Я. Пойду дописывать книгу, допивать последнюю чашку кофе, доживать жизненные остатки.
Артист. Что-то с нами происходит не то. Какое-то наваждение.
Я. И об этом написал Достоевский в "Бесах". Ультрасовременно звучит эффектная решшка о всеобщем сумасшествии. Губернатор Лембке, собирающий цветочки перед присутственным зданием, его жена, одержимая мигренями и манией государственного величия, Лиза, отдающаяся Ставрогину, зная, что он женат. Сам Ставрогин, его мать. Ст. Троф. Верховенский, суетливый бес Петруша — все доведены до нужных кондиций. Ключевая фраза у Ст. Трофимовича: "Cher ami, я двинулся с двадцатипятилетнего места и вдруг поехал, куда — не знаю, но я поехал...". Изящно выраженный современный жаргон: "крыша поехала". У целого города поехала крыша. Достоевский придумывал новые словечки. Тут он не додумал совсем немного. И про них. И про нас.
Артист. Видите, мы не можем разойтись — нет точки в разговоре. Может быть, вы расскажите нам о третьем акте несуществующего спектакля, чтобы мы унесли с собой полное впечатление от него.
Я. Да нет, это долго — надо много рассказывать: и о сцене дуэли с магнитофонными выстрелами из зала и Ставрогиным, стоящим на авансцене лицом к публике, — в руке пистолет, а в глазах не страх, а желание смерти; и об очень эффектной сцене сплетен — включены все три магнитофона одновременно, потому что целый город обсуждает бегство Ставрогина и Лизы в Скворешники; и грандиозная сцена объяснения Лизы и Ник. Всеволодовича в Скворешниках — пожар и ночь в окнах, праздничное зеленое платье с красным платком на Лизе и рядом: покраснела оттого, что платье не застегнуто, и оттого, что рядом робкий и чистый Ставрогин; тихий разговор: цинизм за любовью Ставрогина и любовь за цинизмом у Лизы; полутьма, полусвет, полутон, полуголос. И полулюбовь, (глава "Законченный роман".) Как гениален в этом Достоевский. Он, адепт апокалипсиса, страстей и одержимости, интуитивно не мог пойти против правды чувства и дал полулюбовь. Гениальное прозрение в будущее, в сегодня. Чеховская сцена. Не гармония на взлете, а гармония угасания. Яркий пример контраста внутри тишины, взятого в полную силу; контраста тончайших нюансов, контраста матово-мягкого, но не перестающего быть контрастом. Об этом надо говорить подробно или не говорить совсем.
Артист.А вы не рассказывайте весь акт. Расскажите самый финал.
Я. Финал рассказать нельзя. Я вам покажу его.
Я. Становлюсь на скамейку, поднимаюсь на цыпочки, опускаю вдоль туловища руки, расслабляю шейные мускулы, и голова моя безвольно падает на правое плечо и еще ниже, на грудь. Я закрываю глаза, высовываю язык и начинаю покачиваться, медленно поворачиваясь вокруг оси, — полоборота туда и полоборота обратно, потом пою, стараясь воспроизвести как можно точнее волнующий и вульгарный голос:
...Ты оставил берег свой родной, А к другому так и не пристал.
Повиснув на воображаемой веревке, я верчусь почти что в такт сентиментальному наглому шлягеру, верчусь и допеваю последний, бессловесный припев:
.. Лля-ла-л-ла-лам Лля-лаллалам Лля-лал-ла-ламм Ллял-лалл-лаламмммм...
Актриса.Жуть!
Герой.Что вы делаете? Как вы можете соединять Достоевского с Пугачевой?
Я. Дело тут совсем не в Пугачевой. Дело в том, что вы меня не понимаете... Художник — поводырь человека в бездне, ведущий туда слепого, помогающий ему увидеть, поводырь, ведущий его через боль прозрения к подлинному существованию, радостному и вознаграждающему. Достоевский — наиболее типичный поводырь. Ведущий. Вождь. Не все способны пройти через прозрение, многие не хотят его муку принять на себя, — не доходят до открытия смысла жизни, возвращаются с полпути, а иногда и с самых первых шагов, не выдержав и первой боли. И, возвратясь, все сваливают на поводыря, говоря, что ведет не туда. Так возникает ложь о жестокости Достоевского, ложь о его болезненной тяге к страданию, о мучительстве и пессимизме писателя. А он, прошедший бездну не однажды, знает лично и точно, что счастье есть, готов с каждым из нас снова и снова идти через пустыню страдания, зная — не веря, а зная, — что за ней в самом деле — счастье, окрещенное неверящими и несмеющими миражом.
РЕЗЮМЕ: Снятие семи печатей
Говоря с вами о семи ситуациях игрового театра, я уподоблял их семи цветам радуги, семи нотам традиционной гаммы, семи чудесам света и даже семи дням недели. Но два известнейших сравнения я опустил (забыл или оставил напоследок — не столь уж важно). Я не сравнивал их ни с библейскими семью днями творенья, ни с евангельскими семью печатями. Меня останавливала собственная нерелигиозность, моя непросвещенность и непосвященность в этой сфере. Мне всегда казалось неделикатным даже помыслить о проникновении за грань чужой духовности. Но время идет — вот уже наступил и мой черед переходить эту черту: кончается век, кончается жизнь, кончается долгое мое словописание (или словоговорение — как вам будет удобнее).
В любом конце, даже в конце игры, присутствует в свернутом виде некая необъяснимая апокалиптичность. Спешу успокоить своих читателей: у нас с вами, конечно же, не конец света, у нас всего лишь конец книги. Но отдельные образы, рассуждения и структуры, которые я буду употреблять в нашем последнем разговоре, все равно могут невольно и случайно приобретать апокалиптический оттенок. Более того, я вынужден буду включить в свое резюме упоминания и ссылки на Откровение Иоанна Богослова. Образ снятия семи печатей — одно из таких случайных созвучий .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: