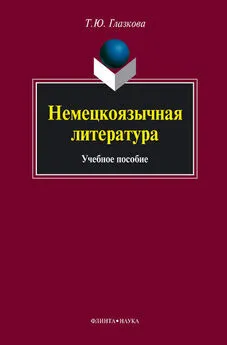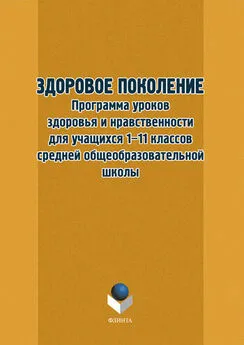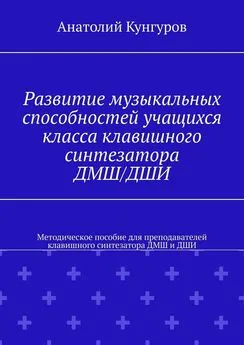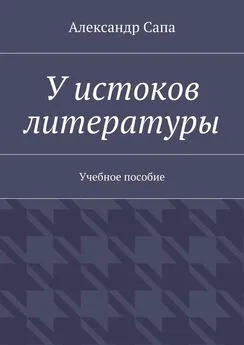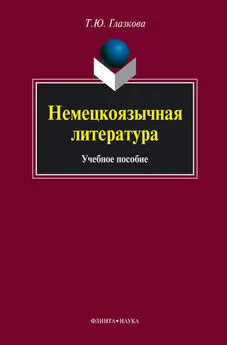Ю Лебедев - Литература (Учебное пособие для учащихся 10 класса средней школы в двух частях)
- Название:Литература (Учебное пособие для учащихся 10 класса средней школы в двух частях)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю Лебедев - Литература (Учебное пособие для учащихся 10 класса средней школы в двух частях) краткое содержание
Литература (Учебное пособие для учащихся 10 класса средней школы в двух частях) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По мере развития действия в драме нарастает несоответствие между романтическими представлениями Ларисы и прозаическим миром людей, ее окружающих и ей поклоняющихся. Люди эти по-своему сложные и противоречивые. И Кнуров, и Вожеватов, и Карандышев способны ценить красоту, искренне восхищаться талантом. Паратов, судовладелец и блестящий барин, не случайно кажется Ларисе идеалом мужчины. Паратов - человек широкой души, отдающийся искренним увлечениям, готовый поставить на карту не только чужую, но и свою жизнь. "Проезжал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеича, отличный стрелок; были они у нас, Сергей Сергеич и говорит: "Я слышал, вы хорошо стреляете".- "Да, недурно",- говорит офицер. Сергей Сергеич дает ему пистолет, ставит себе стакан на голову и отходит в другую комнату, шагов на двенадцать. "Стреляйте",- говорит".
Достоевский в "Братьях Карамазовых" отметит парадоксальную широту современного человека, в котором высочайший идеал уживается с величайшим безобразием. Душевные взлеты Паратова завершаются торжеством трезвой прозы и делового расчета. Обращаясь к Кнурову, он заявляет: "У меня, Мокий Парменыч, ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, что угодно". Речь идет о пароходе "Ласточка". Но так же, как с "Ласточкой", он поступает и с Ларисой: оставляет ее ради выгоды (женитьбы на миллионе), а губит ради легкомысленного удовольствия.
Бросая вызов непостоянству Паратова, Лариса готова выйти замуж за Карандышева. Его она тоже идеализирует как человека с доброй душой, бедного и непонятого (*72) окружающими. Но героиня не чувствует уязвленно-самолюбивой, завистливой основы в душе Карандышева. Ведь в его отношениях к Ларисе больше самолюбивого торжества, чем любви. Брак с нею тешит его тщеславные чувства.
В финале драмы к Ларисе приходит прозрение. Когда она с ужасом узнает, что ее хотят сделать содержанкой, что Кнуров и Вожеватов разыгрывают ее в орлянку, героиня произносит роковые слова: "Вещь... да, вещь. Они правы, я вещь, а не человек". Лариса попытается броситься в Волгу, но осуществить это намерение у нее недостает силы: "Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот какая я несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко". В порыве отчаяния Лариса способна лишь бросить болезненный вызов миру наживы и корысти: "Уж если быть вещью, так одно утешение - быть дорогой, очень дорогой".
И только выстрел Карандышева возвращает Ларису к самой себе: "Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда на стол! Это я сама... сама... Ах, какое благодеяние!.." В нерасчетливом поступке Карандышева она находит проявление живого чувства и умирает со словами прощения на устах.
В "Бесприданнице" Островский приходит к раскрытию сложных, психологически многозвучных человеческих характеров и жизненных конфликтов. Не случайно в роли Ларисы прославилась В. Ф. Комиссаржевская, актриса утонченных духовных озарений, которой суждено было сыграть потом Нину Заречную в "Чайке" А. П. Чехова. Поздний Островский создает драму, по психологической глубине уже предвосхищающую появление нового театра - театра А. П. Чехова.
Пьесы жизни. Островский считал возникновение национального театра признаком совершеннолетия нации. Это совершеннолетие не случайно падает на 60-е годы, когда усилиями в первую очередь Островского, а также его соратников А. Ф. Писемского, А. А. Потехина, А. В. Сухово-Кобылина, Н. С. Лескова, А. К. Толстого в России был создан реалистический отечественный репертуар и подготовлена почва для появления национального театра, который не мог существовать, имея в запасе лишь несколько драм Фонвизина, Грибоедова, Пушкина и Гоголя.
В середине XIX века в обстановке глубокого социального кризиса стремительность и катастрофичность совершающихся в стране перемен создавали условия для подъема и расцвета драматического искусства. Русская литература (*73) и ответила на эти исторические перемены явлением Островского.
Островскому наша драматургия обязана неповторимым национальным обликом. Как и во всей литературе 60-х годов, в ней существенную роль играют начала эпические: драматическим испытаниям подвергается мечта о братстве людей, подобно классическому роману, обличается "все резко определившееся, специальное, личное, эгоистически отторгшееся от человеческого".
Поэтому драма Островского, в отличие от драмы западноевропейской, чуждается сценической условности, уходит от хитросплетенной интриги. Ее сюжеты отличаются классической простотой и естественностью, они создают иллюзию нерукотворности всего, что совершается перед зрителем. Островский любит начинать свои пьесы с ответной реплики персонажа, чтобы у читателя и зрителя появилось ощущение врасплох застигнутой жизни. Финалы же его драм всегда имеют относительно счастливый или относительно печальный конец. Это придает произведениям Островского открытый характер: жизнь началась до того, как был поднят занавес, и продолжится после того, как он опущен. Конфликт разрешен, но лишь относительно: он не развязал всей сложности жизненных коллизий.
Гончаров, говоря об эпической основе драм Островского, замечал, что русскому драматургу "как будто не хочется прибегать к фабуле - эта искусственность ниже его: он должен жертвовать ей частью правдивости, целостью характера, драгоценными штрихами нравов, деталями быта,- и он охотнее удлиняет действие, охлаждает зрителя, лишь бы сохранить тщательно то, что он видит и чует живого и верного в природе". Островский питает доверие к повседневному ходу жизни, изображение которого смягчает самые острые драматические конфликты и придает драме эпическое дыхание: зритель чувствует, что творческие возможности жизни неисчерпаемы, итоги, к которым привели события, относительны, движение жизни не завершено и не остановлено.
Произведения Островского не укладываются ни в одну из классических жанровых форм, что дало повод Добролюбову назвать их "пьесами жизни". Островский не любит отторгать от живого потока действительности сугубо комическое или сугубо трагическое: ведь в жизни нет ни исключительно смешного, ни исключительно ужасного. Высокое и низкое, серьезное и смешное пребывают в ней в растворенном состоянии, причудливо переплетаясь друг с другом. (*74) Всякое стремление к классическому совершенству формы оборачивается некоторым насилием над жизнью, над ее живым существом. Совершенная форма - свидетельство исчерпанности творческих сил жизни, а русский драматург доверчив к движению и недоверчив к итогам.
Отталкивание от изощренной драматургической формы, от сценических эффектов и закрученной интриги выглядит подчас наивным, особенно с точки зрения классической эстетики. Английский критик Рольстон писал об Островском: "Преобладающие качества английских или французских драматургов талант композиции и сложность интриги. Здесь, наоборот, драма развивается с простотой, равную которой можно встретить на театре японском или китайском и от которой веет примитивным искусством". Но эта кажущаяся наивность оборачивается, в конечном счете, глубокой жизненной мудростью. Русский драматург предпочитает с демократическим простодушием не усложнять в жизни простое, а упрощать сложное, снимать с героев покровы хитрости и обмана, интеллектуальной изощренности и тем самым обнажать сердцевину вещей и явлений. Его мышление сродни мудрой наивности народа, умеющего видеть жизнь в ее основах, сводящего каждую сложность к таящейся в ее недрах неразложимой простоте. Островский-драматург часто доверяет мудрости известной народной пословицы: "На всякого мудреца довольно простоты".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: