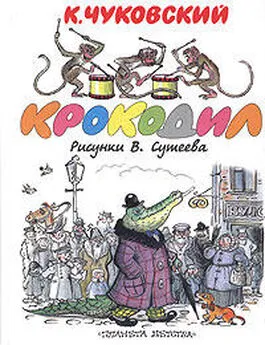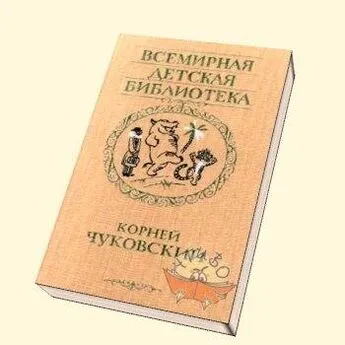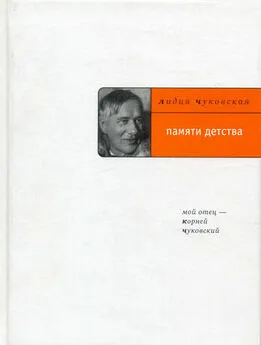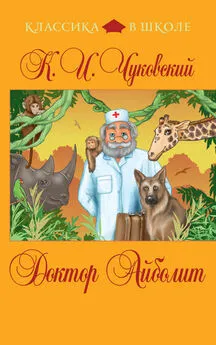Корней Чуковский - Илья Репин
- Название:Илья Репин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Корней Чуковский - Илья Репин краткое содержание
Воспоминания известного советского писателя К. Чуковского о Репине принадлежат к мемуарной литературе. Друг, биограф, редактор литературных трудов великого художника, Корней Иванович Чуковский имел возможность в последний период творчества Репина изо дня в день наблюдать его в быту, в работе, в общении с друзьями. Ярко предстает перед нами Репин — человек, общественный деятель, художник. Не менее интересны страницы, посвященные многочисленным посетителям и гостям знаменитой дачи в Куоккале, среди которых были Горький, Маяковский. Хлебников и многие другие.
Илья Репин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И когда к старости у него стала сохнуть правая рука и он не мог держать ею кисть, он сейчас же стал учиться писать левой, чтобы ни на минуту не оторваться от живописи.
А когда от старческой слабости он уже не мог держать в руках палитру, он повесил ее, как камень, на шею при помощи особых ремней и работал с этим камнем с утра до ночи.
И когда, бывало, ни войдешь в ту темную, тесную, низкую комнату, которая была расположена под его мастерской, всегда слышишь топот его старческих ног: это значит, что после каждого мазка он отходит поглядеть на свой холст, потому что мазки были рассчитаны на далекого зрителя, и ему приходилось проверять их на большом расстоянии; значит, он ежедневно вышагивал перед каждой картиной по нескольку верст и только тогда отставал от нее, когда изнемогал до бесчувствия.
Порой мне казалось, что не только старость, но и самую смерть он побеждает своей страстью к искусству.
Когда я посетил его в Финляндии в 1925 году, я отчетливо видел, что этот «полуразрушенный полужилец могилы» только и держится здесь, на земле, своей сверхчеловеческой работой, что он только ею и жив. А когда смерть вплотную подступила к нему, он написал мне письмо, где весело благодарил уходящую жизнь за то счастье работы, которым она баловала его до могилы.
Вот это письмо:
«…Я желал бы быть похороненным в своем саду… Я прошу у Академии художеств разрешения в указанном мною месте: быть закопанным (с посадкою дерева, в могиле же)… По словам опытного финна, ящика, то есть гроба, не надо. Дело уже не терпит отлагательства. Вот, например, и сегодня: я с таким головокружением проснулся, что даже умываться и одеваться почти не мог: надо было хвататься за печку, за шкапы и прочие предметы, чтобы держаться на ногах…
Да, пора, пора подумать о могиле, так как Везувий далеко, и я уже не смог бы ныне доползти до кратера. Было бы весело избавить всех близких от всех расходов на похороны… Это тяжелая скука.
Пожалуйста, не подумайте, что я в дурном настроении по случаю наступающей смерти. Напротив, я весел и даже в последнем сем письме к Вам, милый друг. Я уж опишу все, в чем теперь мой интерес к остающейся жизни, — чем полны мои заботы.
Прежде всего я не бросил искусства. Все мои последние мысли о Нем, и я признаюсь: работал, как мог, над своими картинами…
Вот и теперь уже, кажется, более полугода я работаю над (уже довольно секретничать) — над картиной „Гопак“, посвященной памяти Модеста Петровича Мусоргского… Такая досада: не удастся кончить… А потом еще и еще: все темы веселые, живые…
А в саду никаких реформ. Скоро могилу копать буду. Жаль, собственноручно не могу, не хватит моих ничтожных сил; да и не знаю, разрешат ли?
А место хорошее… Под Чугуевской горой. Вы еще не забыли?
Ваш Илья Репин» [37] Письмо от 18 мая 1927 г. (отправлено 10 августа того же года).
.
Даже в этих предсмертных словах одряхлелого Репина, когда казалось, дунь на него — и он рассыплется в пыль, то же упорное труженичество и та же неукротимая страстность.
По пояс в могиле пишет он мажорную картину, прославляя счастье молодости, веселую пляску и смех.
Каков же был этот человек в полном расцвете всех сил, когда творчество не было для него такой изнурительной тяготой, когда на одном мольберте стоял у него «Крестный ход», на другом — «Не ждали», на третьем — «Иван Грозный, убивающий сына», на четвертом — «Отказ от исповеди перед казнью», на пятом — портрет Сютяева, на шестом — тайно от всех «Запорожцы»; когда Крамской говорил о нем: «Он точно будто вдруг осердится, распалится всей душой, схватит палитру и кисти и почнет писать по холсту, словно в ярости какой-то. Никому из нас всех не сделать того, что делает теперь он» [38] Стасов В. В. Избр. соч., т. 1. М., «Искусство», 1952, с. 304.
.
Эта «ярость», эта напористость творчества, эта жадность к живому человеческому телу, к человеческим лицам, глазам, ко всем «предметам предметного мира», эта безмерная влюбленность в осязаемую, зримую плоть, которую с чувством неиссякающего счастья он запечатлевал у себя на холстах, придавая ей такую выразительность, такую, я сказал бы, громогласность, что на каждой его картине, на каждом его портрете она буквально кричит о себе, — вся эта могучая темпераментность творчества и сделала его великим реалистом.
Это не был бесстрастный копировальщик природы, он писал ее восторженно, благодарно и нежно, и я тысячи раз подмечал у него на лице счастливое выражение влюбленности, с которым он вглядывался в то, что писал.
И замечательно: он сам говорил мне, что чаще всего, когда он пишет чей-нибудь портрет, он на короткое время влюбляется в того человека, испытывает удесятеренное чувство благожелательства к нему, какой-то особенной, почтительной нежности, и, я думаю, это происходило от той страстной любви, с которой он как мастер-живописец относился ко всем объектам своего мастерства.
В тот период, когда он писал мой портрет, он ездил в город на все мои лекции, читал мои тогдашние книги, и вообще то был «медовый месяц» наших отношений, никогда уже не повторявшийся снова.
Такой же «медовый месяц» был у него с академиком Бехтеревым, с Владимиром Короленко, с Битнером, с Сергеем Городецким, с артисткой Яворской, с Шаляпиным, со всеми, кого писал он при мне.
Эта временная влюбленность портретиста в натуру всегда поражала меня своей внутренней, я сказал бы, профессиональной целесообразностью, неясной ему самому.
В 1908 или 1909 году он читал мне наизусть многие стихотворения забытого Константина Фофанова, написанные еще в восьмидесятых годах, именно в тот самый период, когда Фофанов позировал ему для портрета.
Эти стихи остались в Репине от его «медового месяца» с Фофановым.
И всем памятна его влюбленность в Канина, в того бурлака, которого он увидел на Волге.
«…Я иду, — рассказывает он в мемуарах, — рядом с Каниным, не спуская с него глаз. И все больше и больше нравится он мне; я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и посконной рубахи. Какая теплота в этом колорите!» [39] Репин И. Далекое близкое, с. 252.
И на следующей странице опять:
«Мне он казался величайшею загадкой, и я так полюбил его».
И дальше:
«Целую неделю я бредил Каниным…»
И через несколько страниц:
«…Я писал наконец этюд с Канина! Это было большим моим праздником».
Драгоценна в этих мемуарах та строка, где он говорит, что влюбился не только в живописные качества Канина, не только в теплый колорит его кожи и его посконной рубахи, но и «во всякую черту его характера».
Репин потому-то и был величайшим портретистом-психологом, что умел восхищаться натурой не только как сочетанием таких-то красок, а раньше всего как характером, который открывался ему во всей своей сути именно в этот краткий период влюбленности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: