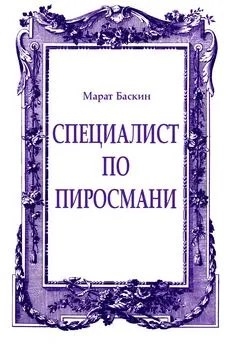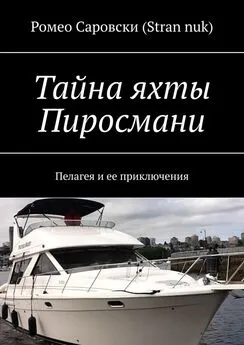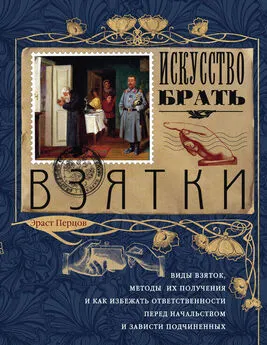Эраст Кузнецов - Пиросмани
- Название:Пиросмани
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1984
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эраст Кузнецов - Пиросмани краткое содержание
Книга посвящена великому грузинскому художнику Н. Пиросманашвили, пользующемуся сегодня мировой известностью. Автор воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества мастера, раскрывает смысл и своеобразие его самобытного искусства.
По сравнению с первым изданием нынешнее существенно расширено и дополнено новыми материалами. В книге — тоновые и цветные воспроизведения работ художника, а также документальный изобразительный материал, дающий представление о его облике и о той среде, в которой он жил и работал.
2-е изд., исправленное и дополненное
Пиросмани - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Еще Г. Якулов указал на то, как близко искусство Пиросманашвили к формуле Пикассо: «Я не ищу, а нахожу». Указал, очевидно, еще не зная слов самого Пиросманашвили: «Я так хотел сделать, и мне это удалось…»
Конечно, уверенность и быстрота, с которыми он работал, отчасти объясняются тем, что многие темы и сюжеты у него не раз повторялись и варьировались, что у него были излюбленные, установившиеся композиционные схемы, а многочисленные детали, варьируясь, переходили из картины в картину. Но только отчасти. Можно было бы предположить, что, обладая уникальным зрительным воображением, он начинал работать, мысленно представляя себе всю будущую картину, вплоть до мелких деталей, а потом как бы воспроизводил стоящее перед его внутренним взором (будто бы именно так работал Врубель). А может быть — и это вероятнее, потому что его таланту свойственны были черты импровизационности, — он представлял себе только главное, именно то, что считал нужным наметить на клеенке, а начиная работу, выстраивал все подробнее, не раз переменяя на ходу, внося непредвиденные дополнения. Картина росла как бы сама собою; не как здание, заранее спроектированное архитектором, а скорее как дерево: посадив дерево, можно предугадать только общие его черты, но немыслимо предвидеть, как потянутся его ветви и сучья, как они соотнесутся друг с другом, какой узор образует их случайное перекрещение.
Художник оставался в напряжении от того момента, как брал кисть, и до того, как клал последний мазок; чувство и мысль его работали непрерывно, соразмеряя сделанное с тем, что еще надо сделать, дополняя и уточняя целое, чутко реагируя на движение живописной формы. Но это делало его и свободным: его не связывал даже собственный замысел. Жизнь картины была в его руках, он обращался с нею с такой легкостью, которая была мало кому доступна. Он мог позволить себе это. Он мог безболезненно вносить в уже начатую и, казалось бы, определившуюся картину совершенно новые детали — те, которых от него требовали, и те, которые ему самому приходили в голову — вплоть до новых действующих лиц. Примеры тому известны. Работая над «Кутежом у Гвимрадзе», он добавил к кутящей компании двух мальчиков: один из них был тут же в духане — на него надели белый фартук, а в руки дали блюдо с рыбой; другого он написал по фотографии. Он вообще легко и часто соединял изображение позирующего ему человека с изображением по фотографии (такое заказывали ему не раз), но между ними не видно разницы: он словно рождал их заново, и ему неважно было, от чего отталкиваться — от человека, сидящего перед ним, или от фотографии. Да он, по существу, никогда и не писал с натуры в точном смысле слова, а только по представлению или по воображению. Даже делая портрет, он нуждался в позировании только в самом начале работы, а продолжал и заканчивал уже по памяти, руководствуясь тем образом, который возникал в его сознании и заслонял живого человека.
Скорость всякой работы (а живопись тоже работа, и тяжелейшая) — понятие, так сказать, производственное, она может быть достигнута и разными средствами — в том числе и такими, которые ведут к потере художественного качества. Анри Руссо, да и не он один, погиб бы как художник, если бы его вынуждали писать по картине в день. Пиросманашвили был мастером иного склада: необходимость работать быстро счастливо совпала с особенностями его творческого темперамента и переросла в то, что принято называть темп живописи. Этим темпом проникнуто все его творчество, и вторичное, уже зрительское переживание этого темпа — одна из тех радостей, которые дарят нам его картины.
Ускоренный темп живописи натолкнул Пиросманашвили на принцип экономности — крайняя скупость, ограниченность, даже бедность всех возможностей (в том числе и времени) при удивительном разнообразии и изощренности их использования. Недаром в свое время М. Ларионов упоминал о «немногочисленных средствах», — которыми у Пиросманашвили «достигается так много». [60] Ф. М. Лучисты. В мастерской Ларионова и Гончаровой. — Московская газ., 1913, 7 янв.
Достичь максимума эффективности при минимуме усилий, многое выразить немногим, целое — частью, вместо нескольких мазков сделать один, не писать вовсе там, где без того можно обойтись (вот они, незаписанные куски черной клеенки!), — синтезировать, укрупнять, подменять, выделять — вот пафос и внутренний двигатель его живописи.
Он выработал собственную оригинальную манеру, [61] Нет сомнения, этой манере, точно так же как и удачному выбору материалов, мы обязаны хорошей сохранностью его живописи: при длительном письме разные слои краски высыхают неравномерно и это приводит к их растрескиванию.
позволявшую ему преодолеть, казалось бы, непреодолимое противоречие между ограниченностью возможностей (в том числе и времени) и богатством и полнокровностью живописи. Эта манера сложилась у него стихийно из потребностей растущего перед ним в процессе работы изображения, она исключала традиционную сложную систему живописи — с подготовкой живописной основы, с подмалевком, прорисовкой рисунка и последовательным наложением взаимодействующих красочных слоев, при котором каждый мазок становится фундаментом для последующей обработки. Его технология, по-своему закономерная и систематическая, давала результат сразу — без поправок и уточнений.
Письмо Пиросманашвили можно сравнить отчасти с известной манерой alla prima, но уподобление это совершенно условно, потому что результаты их сильно разнятся, а подчас даже противоположны. Живопись alla prima питается пафосом чисто оптического восприятия действительности; она эмоциональна, динамична и в большой степени субъективна; темперамент автора очень наглядно передается ею. Напротив, живописи Пиросманашвили присуще удивительное, необъяснимое противоречие между легкой быстротой приема и спокойной, статичной материальностью; все изображаемое плотно и реально, все — в полную силу существования предмета — круглится, выступает, выпирает, все объемно и тяжело; ее пафос — объективность. Недаром писавшие о нем поминали Сезанна или Дерена.
Материальной убедительности Пиросманашвили достигает решительным упрощением формы — таким решительным, на какое редко кто осмеливается, при котором форма укрупняется, утрачивает мелкие переходы, отклонения, разрушающие цельность впечатления основной массы. Придавая изображению мощь и статичность, Пиросманашвили, однако, не приходит к схематизму и отвлеченности, потому что лаконизм формы у него дополняется и как бы уравновешивается активностью письма. Активность его манеры не имеет ничего общего ни с чисто живописным (несколько физиологическим) темпераментом, присущим, скажем, Константину Коровину, ни с субъективной экспрессией Ван Гога. Это активность творения предметов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: