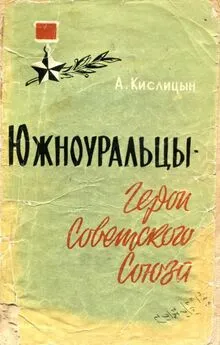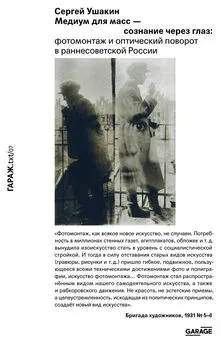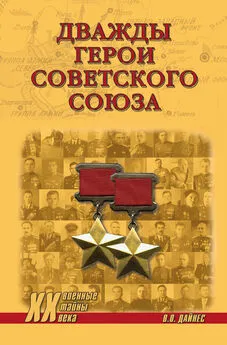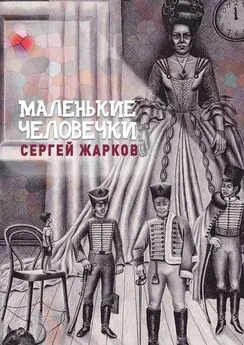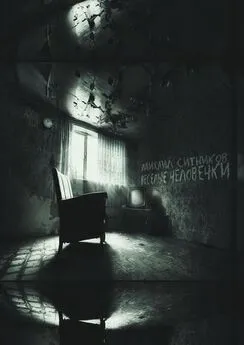Сергей Ушакин - Веселые человечки: культурные герои советского детства
- Название:Веселые человечки: культурные герои советского детства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-642-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ушакин - Веселые человечки: культурные герои советского детства краткое содержание
Сборник статей о персонажах детских книг, кино-, теле- и мультфильмов.
Карлсон и Винни-Пух, Буратино и Электроник, Айболит и Кот Леопольд, Чебурашка и Хрюша — все эти персонажи составляют «пантеон» советского детства, вплоть до настоящего времени никогда не изучавшийся в качестве единого социокультурного явления. Этот сборник статей, написанных специалистами по разным дисциплинам (историками литературы, антропологами, фольклористами, киноведами…), представляет первый опыт такого исследования. Персонажи, которым посвящена эта книга, давно уже вышли за пределы книг, фильмов или телепередач, где появились впервые, и «собрали» вокруг себя множество новых смыслов, став своего рода «иероглифами» культурного сознания современной России. Осмысление истории и сегодняшнего восприятия этих «иероглифов» позволяет увидеть с неожиданных, ранее неизвестных сторон эстетические пристрастия советского и постсоветского общества, дает возможность более глубоко, чем прежде, — «на молекулярном уровне» — описать социально-антропологические и психологические сдвиги, происходившие в истории России в ХХ — ХХI веках.
Веселые человечки: культурные герои советского детства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как и в песнях-плачах о прощании с детством, потеря ориентации — своего рода гносеологический туман — активизировала в мультфильме состояние страха и тревожности. Поход ежика с баночкой варенья на чай к другу-медвежонку превращался в бесконечное преодоление преград и угроз (Илл. 8).

Илл. 8. Под постоянным наблюдением: Ежик отправляется в путь. Кадр из мультфильма «Ежик в тумане» (1975 )
Понять, что означают эти испытания и кто именно преследует, не всегда возможно. Пространство, доступное ежику для ориентации, предельно ограничено. Всё и все тонут в тумане. Сам ежик, материализуя метафору, чуть не тонет в ручье. Совы, лошади, слоны, улитки, летучие мыши и т. п. появляются из ниоткуда и исчезают в никуда, будучи то ли фантомами, то ли реальными персонажами жизни ежика [73].
Мультфильм Норштейна, пожалуй, в наиболее изощренной форме отобразил суть того, что Лакан называл соскальзыванием в Воображаемое, соскальзыванием, призванным компенсировать провалы в символической системе. Неспособность символического порядка бесперебойно воспроизводить устойчивые смысловые конфигурации, как отмечает Лакан, обычно лишь обостряет попытки связать доступное означающее (образ, звук, жест и т. п.) с его возможным, но неявным означаемым (содержанием). В такой ситуации любая «варежка» кажется знаком, точнее — обещанием смысла [74]. Нестабильность символического порядка, однако, серьезно ограничивает характер процесса символизации. Невнятность ситуации приводит к тому, что неочевидность происходящего автоматически воспринимается как угроза, которая столь же молниеносно может превратиться в свою оппозицию. Так, в мультфильме зловещая темная громада, нависшая над ежиком, оказывается всего лишь деревом; падающий предмет вселяет вселенский ужас лишь для того, чтобы секундой позже обнажить всю свою безобидность — в виде улитки на листке, слетевшем с дуба.
И это поляризованное восприятие действительности, и эта внезапность смены настроений и смысла не случайны. Мелани Кляйн, психоаналитик, известная своими работами с маленькими детьми, неоднократно отмечала, что в условиях отсутствия развитой и стабильной системы знаковой ориентации процесс символизации нередко строится по принципу расщепления [75]. Позитивная и негативная стороны объекта оказываются разведенными в разные стороны. Части объекта превращаются в оппозиции. В итоге — «идеализированной» версии объекта противопоставляется его отчужденная «ужасающая» версия [76]. Иными словами, символизация осуществляется здесь как процесс поляризации смыслов. Более того, потенциальное значение символа выступает производным от аффекта; ведущим ориентиром служит чувство удовольствия или угрозы [77].
Собственно, по этому принципу поляризации приятного и тревожащего и строится история «Ежика в тумане»: угрожающие ситуации постоянно сменяются ситуациями благожелательными (Илл. 9). И хотя мягкая ирония фильма делает жуткости и испытания «игрушечными», сюжет в целом сохраняет свою четко поляризованную структуру — с предвкушением встречи на одном полюсе и цепью странных проб и проверок — на другом.

Илл. 9. У страха глаза велики: Ужасы ежика в тумане. Кадр из мультфильма «Ежик в тумане» (1975 )
Показательно в этих историях, однако, вот что. И в «Варежке», и в «Ежике» главным является именно работа воображения, точнее, страхи и удовольствия, связанные с ним. Сама финальная сцена удовольствия, к которой разнообразные фантазматические и/или реальные испытания и должны были бы вести, в сюжет не вписывается. «Варежка» заканчивается сценой впавшей в детство мамой: забрав щенка у соседей, она
умиляется собаке (финального кадра дочери нет в принципе).
В «Ежике» — собственно сцены чаепития, ради которой все и затевалось, нет вообще — узелок с малиновым вареньем так и останется неразвязанным. Важным вновь оказывается сам процесс медиации, само преодоление всяческих угроз и сложностей, а не факт достижения конечной цели. Иначе говоря, увлекательна дорога в Изумрудный город, принципиальны события и испытания на пути к цели, сам же «город» ничего, кроме разочарования, не вызывает.
Как показывают авторы «Веселых человечков», этот же прием символизации был во многом характерен и для позднее-советской детской культуры в целом. Поляризация персонажей сопровождалась здесь темой преследований и/или испытаний.
Например, Лиля Кагановская подчеркивает, что сериал «Ну, погоди!» базируется на постоянной смене положений бинарных категорий (заяц/волк, свой/чужой, добрый/злой, женское/ мужское и т. п.) в контексте «вечного преследования». Александр Бараш описывает похожую дихотомию в своей интерпретации мультсериала «Приключение Кота Леопольда». А. Прохоров и М. Липовецкий выделяют эту же логику бинарного позиционирования преследующих и преследуемых в сказке о Буратино. Для большей очевидности эффекта герои сказки, замечает Липовецкий, «ходят парами»: деление на идеалистов и злодеев усиливается физическим удвоением самих персонажей (Карло и Джузеппе; Алиса и Базилио и т. п.). В статье об Электронике И. Кукулин тоже исследует сходный прием удвоения персонажей в контексте преследования иностранные мафиози охотятся за очеловеченным роботом, как две капли воды похожим на своего друга — живого мальчика. В данном случае бинарность главных героев претерпевает определенную трансформацию. Своеобразная метафора позднесоветской двойственности/двуличия — в виде шалопая Сыроежкина и идеального робота Электроника, имеющих два автономных тела, но лишь одно лицо, — теряет свою дуальность. «Близнецы» становятся не противоположностями, но субъектами, растущими вместе.
Если поляризация смысла и функций являлась господствующим принципом организации позднесоветских нарративов, то их другим, не менее важным свойством было отсутствие постоянства. Нестабильная символическая система была не в состоянии «заземлить» установленную связь оппозиций. Наличие означающего, иными словами, не определяло траекторию его развития. Новое означаемое в любой момент могло изменить смысл знака до неузнаваемости [78]. В итоге и сами бинарные пары не носили упорядочивающего характера. Их противоположность оказывалась эффектом контекста их появления и требовала своего постоянного подтверждения и соответственно повторения. Комедию масок, так сказать, вытесняла комедия положений. Или, чуть иначе: основа конфликта искалась не в особенностях идентичности героя, но в самом символическом порядке. Более того, возросшая автономность мира Воображаемого и относительная самостоятельность означаемых — «Ты не веришь? Ну и что ж…» — вели к тому, что бинарные категории, как отмечает Л. Кагановская, становились не только взаимозависимыми, но и взаимопроизводными. В основе сюжета оказывалось не развитие персонажей, а смена их взаимных позиций. «Вечный» характер преследования подразумевал при этом и вечную неразрешимость конфликта. Преследование, говоря иначе, превращалось в разновидность веселой карусели, в своеобразный бег на месте: лозунг «Ну, погоди!» нейтрализовался неартикулированной уверенностью в том, что «Нас не догонят!» (Илл.10).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
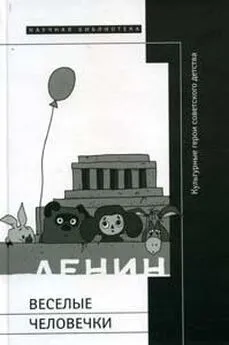
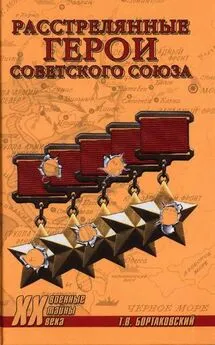
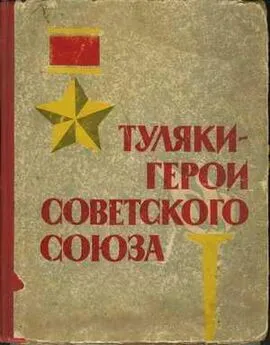
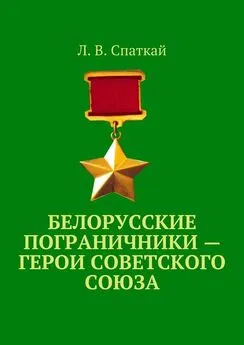
![Золотые звезды Новокузнецка [Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации]](/books/1092293/neizvestnyj-avtor-zolotye-zvezdy-novokuznecka-ger.webp)