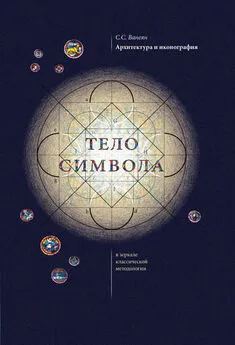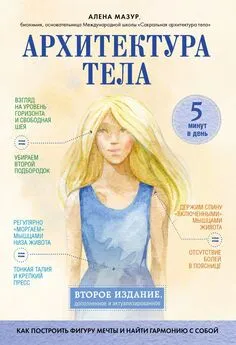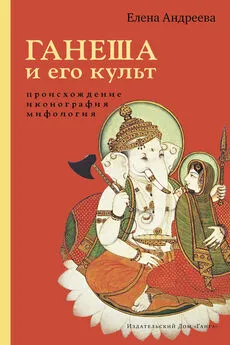С. Ванеян - Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии
- Название:Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-331-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Ванеян - Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии краткое содержание
Впервые в науке об искусстве предпринимается попытка систематического анализа проблем интерпретации сакрального зодчества. В рамках общей герменевтики архитектуры выделяется иконографический подход и выявляются его основные варианты, представленные именами Й. Зауэра (символика Дома Божия), Э. Маля (архитектура как иероглиф священного), Р. Краутхаймера (собственно – иконография архитектурных архетипов), А. Грабара (архитектура как система семантических полей), Ф.-В. Дайхманна (символизм архитектуры как археологической предметности) и Ст. Синдинг-Ларсена (семантика литургического пространства). Признаются несомненные ограничения иконографии, заставляющие продолжать поиски иных приемов описания и толкования архитектурно-литургического целого – храмового тела, понимаемого и как «тело символа», как форма и средство теофании. В обширных Приложениях представлен в том числе и обзор отечественного опыта архитектурной иконографии.
Книга предназначена широкому кругу читателей, должна быть полезна историкам искусства и может представлять интерес для богословов, философов, культурологов – как ученых-специалистов, так и студентов-гуманитариев.
Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А что, если речь идет не о копии, а о чем-то ином? Подобным вопросом задается один современный немецкий автор [391], обращая внимание хотя бы на тот факт, что, в отличие от Краутхаймера, средневековые источники, говоря о копиях, на самом-то деле, самого слова «копия» не употребляют. Никогда не встретишь в связи с описанием всех упоминавшихся построек слово similitudo, означающее точное воспроизведение, реплику, репродукцию, дубликат. Понимание архитектурной копии у Краутхаймера ориентировано не на Средние века, а на такое представление об оригинале и его имитации, которое свойственно скорее историзированному мышлению XIX века [392].
Но Средним векам знакома и практика точного воспроизведения, особенно в мелкой пластике, где можно наблюдать «наиточнейшее повторение, когда одна вещь совершенно равна другой» [393]. Это свидетельствует, по крайне мере, о «способности к исчерпывающей реплике», доказывая одновременно, что буквальная копия – «самая бедная по смыслу художественная форма», являющаяся, по сути, «простым украшением» [394].
Смысл такого прямого репродуцирования – приблизить прототип, иметь при себе чтимый образец, «содержательно и формально репрезентировать прообраз».
И наоборот, чем заметнее разница между прообразом и его «отобразом», тем существеннее становится смысл повторения как такового. «Модификации возникают не от технической неспособности к точной репродукции, а по причине обязательной дистанции, которая должна быть между образом и прообразом, чтобы последний таковым оставался» [395]. Иначе говоря, особый смысл заключен в отклонении от прообраза: изменения обладают собственным значением. Но каков же этот смысл, что значит подобный акт образного различения, то есть сознательного (и не очень) изменения первоначального образца?
Таковых значений несколько. Во-первых, это явное свидетельство обладания прообразом, власти над ним, возможности вносить в него изменения. Во-вторых, измененное повторение – знак замены прообраза. И в-третьих, как следствие, – защита прообраза, место которого занимают его варианты, при том, что инварианта остается в целости и сохранности. Копии в этом случае сродни наружным и изменчивым оболочкам, внутри которых содержится неизменный и недоступный прообраз. Ситуация обладает явно реликварным характером, где реликвия имеет ментальное свойство, а сам реликварий – материален. Такого рода совмещающая и совмещенная феноменология вещественного и неосязаемого, зримого и недоступного зрению, материального и идеального свидетельствует о том, что мы имеем дело с сущностями мистериальной природы, где главную роль играет все то же припоминание, анамнезис. Но и соучастие!
Это уже конечный продукт всех тех многочисленных процессов, которые мы объединяем понятием практики копирования архитектурных образцов. Поэтому в качестве исходного условия понимания всего происходящего следует с самого начала различать следующие аспекты:
– осознание прообраза в качестве такового;
– восприятие прообраза и формирование всякого рода паттернов, гештальтов, то есть ментальных эквивалентов;
– конечно же, «миметический» или мнезический образ;
– понимание того, что архитектурный прообраз – не исходный пункт, а тоже репродукция того, что или неуловимо для чувственного восприятия, или обладает иной образностью, например словесной.
Но за всем этим стоит проблема восприятия архитектуры как таковой: как внешнего явления, как предмета, независимого от наблюдателя, или как части окружающей обстановки. Насколько существовало в описываемое время представление о целостности архитектурного произведения, о характерном в нем, о соотношении наружного облика и внутреннего пространства? Каков был статус деталей, воспринимались ли они таковыми?
По большому счету, необходимо реконструировать не только отношение зритель (посетитель)/архитектура, но и всю совокупность факторов, включающих, между прочим, и телесный опыт, и опыт пространственно-средовой, и опыт материально-пластических границ и пределов. Достаточно включить в поле рассмотрения феноменологические факты, в первую очередь интенциональные качества архитектурного опыта, как сразу же изменится вся картина, мы получим совсем иные образы и иную методологию, превышающую возможности даже иконологии, не говоря уж об иконографии, которая в лице того же Краутхаймера предпочитает очень простые концептуальные установки, предполагающие сугубо предметный подход к той же архитектуре.
И потому именно для этого метода столь существенна дистанция , которую современный критик Краутхаймера совершенно справедливо обозначает как «обязательнейший фактор в отношениях между прообразом и его отображением» [396]. Эта дистанция удерживает за прообразом его собственное место, в том числе и историческое, а не только топографическое. В этом случае копия будет представлением прообраза в настоящем, в моменте своего создания [397]. Именно эта тема стала отправным пунктом уже в иконологических рассуждениях Гюнтера Бандманна [398].
Но мы можем задаться вопросом: а действительно ли это и есть граница иконографии? Быть может, у этого подхода есть еще какие-то познавательные резервы, касающиеся того же пространства или, наоборот, предметной, вещной стороны архитектуры? Обязательно ли так сразу делать антропологический рывок и обращаться к сознанию как истоку всякого смысла, как это делает и Бандманн, и практически все иконологи архитектуры, даже не именуя себя таковыми?
Существуют, по крайней мере, два примера все еще иконографического по своей сути подхода, в которых, однако, мы видим выход именно в сферу архитектурной предметности и архитектурной пространственности, то есть среды. Это археолог Дайхманн и семиолог и социопсихолог Синдинг-Ларсен. Как мы попытаемся показать, тот и другой при этом остаются иконографами. Проблема состоит в том, достаточно ли принять за отправную точку языковую парадигму, чтобы стать иконографом?
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ АРХИТЕКТУРЫ
и
ИКОНОГРАФИИ
Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой…
И.С.Тургенев. Накануне

Палеохристианские образы – стереотипы сакральных тем
Мы видели, что достаточно признать за сакральной образностью функцию сообщения, передачи некоего знания, идеи, просто темы, достаточно допустить, – а это сделать просто необходимо – наличие устойчивых правил хранения и воспроизведения этой информации, как мы тут же оказываемся вынуждены признать за иконографическими свойствами изображения языковые качества, а саму иконографию рассматривать как разновидность визуальной лингвистики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: