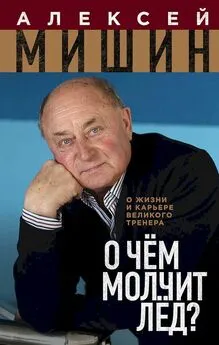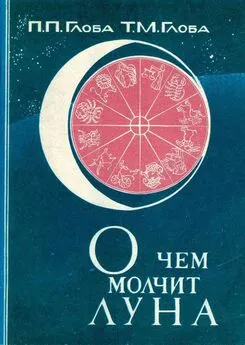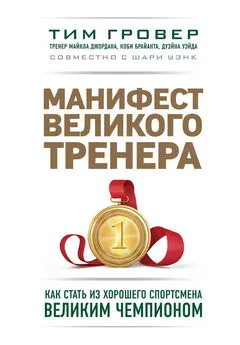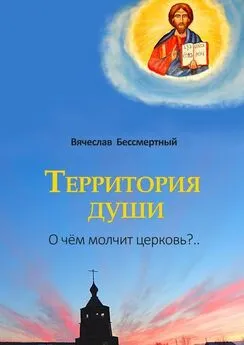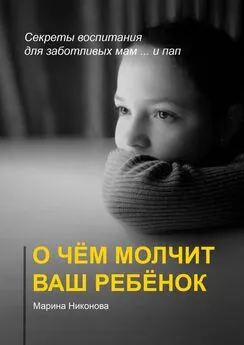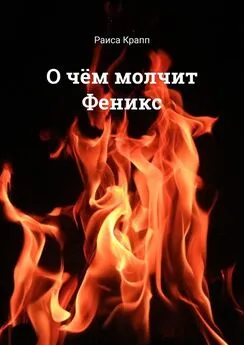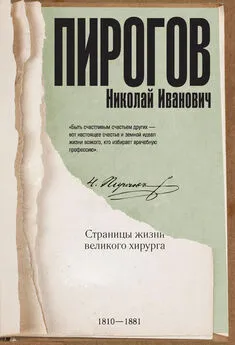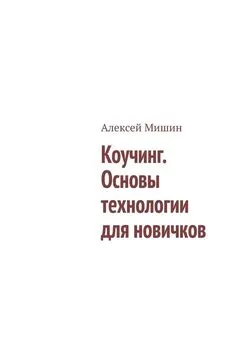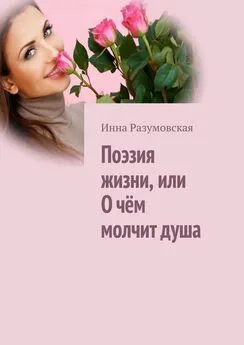Алексей Мишин - О чём молчит лёд? О жизни и карьере великого тренера
- Название:О чём молчит лёд? О жизни и карьере великого тренера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-088686-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Мишин - О чём молчит лёд? О жизни и карьере великого тренера краткое содержание
Алексей Мишин делится не только подробностями своей профессиональной жизни, но и говорит о техниках фигурного катания, необходимых фигуристам, как начинающим, так и мастерам.
О чём молчит лёд? О жизни и карьере великого тренера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Отец мне запомнился как очень деятельный, жизнерадостный человек, любивший жизнь во всех её проявлениях. Он обожал охоту и рыбалку. Уже в то время папа увлекался фотографией, у меня остались снимки, где всё место его охоты в Крыму было буквально усыпано зайцами. В эпоху своего пребывания в Тбилиси отец постоянно привозил домой рыбу, которую они с сослуживцами ездили ловить в Черном море.

Папа привил мне любовь к творчеству. Помню, что всё моё детство было занято игрой в конструкторы, среди которых центральное место занимали «Юный электрик», «Юный физик» и т. п.
Мама же моя была замечательной хозяйкой и рукодельницей. На всех сохранившихся детских фотографиях я неизменно запечатлён в вязаных рейтузах, вязаном свитере, вязаной шапке и вязаных рукавицах. В общем, мы с сестрой были «обвязаны» с головы до ног. Свой талант мама пронесла сквозь всю жизнь. Некая его часть, видимо, передалась и мне, потому как я тоже люблю готовить, строить, сажать, выращивать, причём, когда это становится необходимым, делаю очень даже хорошо.
Вспоминая свою жизнь, думаю, что энергию и хозяйственную смётку, способность к самой разнообразной работе я унаследовал от мамы, а склонность к научной деятельности, анализу движений фигуриста с позиции биомеханики — от отца. Отец, уже будучи в весьма преклонном возрасте, перевалив за 90 лет, продолжал писать статьи и щедро снабжал ими преподавателей кафедры фигурного катания института им. П. Ф. Лесгафта. И писал очень интересно. Многие его идеи и сейчас выглядят новаторскими.
Заслуга в том, что мой жизненный путь повернул в сторону фигурного катания, принадлежит моей любимой сестре Людмиле, которая подарила мне коньки-снегурки. Мы привязывали их верёвками к валенкам и выходили на Рузовскую улицу у Витебского вокзала. На углу Рузовской и Загородного проспекта находился дом офицеров бывшего Семёновского полка, охранявшего Царскосельскую железную дорогу. В нём была комната, где мы жили впятером — мама, папа, бабушка и я с сестрой. На этом углу с Загородного проспекта поворачивали грузовики, сама Рузовская улица тогда не чистилась и была вся утоптана и укатана снегом. Мы делали из кочерги крючки, привязывали верёвку, и когда на скользкую улицу поворачивал грузовик, цеплялись к нему по трое-четверо, выписывая так называемые «голландские шаги». Да-да, моё первое знакомство с дугами и скольжением состоялось именно на Рузовской улице. Так продолжалось до тех пор, пока однажды одному из шофёров это не надоело: он резко остановился, и мы, по инерции, выехали вперёд. Недолго думая, он схватил меня за коньки и вытряс о дорогу из меня всё желание кататься таким образом. После этого мои уличные университеты фигурного катания завершились. И я начал заниматься спортом менее экстремальным способом.
С большим стеснением по совету редактора книги признаюсь в одном факте моей детской биографии. Чувствуя в себе будущего инженера-электрика и прочитав повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», я с приятелем, жившим на этаже выше, решил усовершенствовать коммуникацию друг с другом не консервными банками, висящими на веревках, а настоящей телефонной связью.
Мои представления о телефонии заключались в том, что дуплексная связь может быть осуществлена соединением проводами двух телефонных трубок и батарейки для карманного фонаря. Батарейку мы достать смогли. Реализация проекта упёрлась в отсутствие трубок.
Поздним вечером на соседней улице в тёмной парадной решительным движением ножа была добыта первая трубка. Поход за второй окончился в милиции. Нас препроводили туда, разрезав на поясе наших шаровар резинки таким образом, что мы с понурой головой без попыток к бегству, поддерживая спадающие штаны, оказались в отделении. Это событие явилось мощным фактором, заставившим моих родителей более активно заняться моим досугом.
В те годы всё фигурное катание Ленинграда, можно сказать, концентрировалось вокруг клумбы перед Аничковым дворцом. Эта клумба, кстати, существует до сих пор. Там заливали каток и тренировались. Когда я пришёл в секцию фигурного катания, мне исполнилось 15 лет. Я был парнем очень динамичным, благо не одним катанием за грузовиками мои игры ограничивались.
Рядом с нашим домом располагались дровяные сараи. Эти сооружения служили нам в дворовых играх в качестве военных укреплений. Я и мои друзья, которые называли меня «грузином» за приобретенный в Тбилиси типичный кавказский акцент, регулярно проверяли крыши сараев на прочность. Чтобы отвлечь сына от подобных дворовых безобразий, отец решил определить меня в секцию Дворца пионеров.
Секция фигурного катания была выбрана не случайно: два обстоятельства решили мою будущую спортивную специализацию. Во-первых, мой отец сам любил в молодости кататься на коньках вместе с мамой. Они даже пробовали исполнять так называемые «голландские шаги», дуги вперёд-наружу. Во-вторых, папа купил и собственноручно прикрутил коньки 4 ГПЗ — Четвёртого государственного подшипникового завода — к обычным полуботинкам на резиновой подошве. Стопа в них держалась кое-как, однако то, что я начинал кататься на ботинках с очень короткими, практически отсутствующими голенищами, позволило настолько укрепить голеностоп, что за свою спортивную карьеру я ни разу не столкнулся с широко распространённой в фигурном катании травмой голеностопного сустава.
Сейчас я отчётливо понимаю, что именно катание в ботинках с низкими голенищами способствовало быстрому овладению рёберным катанием — чрезвычайно важным качеством фигуриста. В наши дни порой больно смотреть на начинающего фигуриста, закованного в «железобетонные» ботинки, затрудняющие освоение лёгкого, свободного скольжения…
Порой про кого-либо говорят: «В тот момент ему посчастливилось встретиться с человеком, круто изменившим его судьбу». Про себя могу сказать, что мне, наверное, на такие встречи везло на протяжении всей жизни.
По счастливому стечению обстоятельств, когда папа привел меня в секцию фигурного катания, там уже работала Нина Васильевна Леплинская — ученица и подруга легендарного Николая Александровича Панина-Коломенкина [3] Николай Александрович Панин-Коломенкин (1871–1956) — первый российский олимпийский чемпион (1908) по фигурному катанию на коньках.
. Спустя годы, во время написания диссертации, я стал изучать его книги и вспомнил, как Нина Васильевна учила делать повороты — в её методике явно была видна система Панина-Коломенкина.
Когда я пришел в спорт, обучение фигурному катанию в нашей стране только начинало формироваться. Добрые традиции дореволюционной русской системы были утрачены под натиском «революционного» представления о физической культуре и спорте. Массовые марши гимнастов, пирамиды из акробатов, стрельба и метание гранат были любимыми забавами восставшего пролетариата. Лётчики и парашютисты стали героями дня. «Буржуазные» виды спорта — теннис и фигурное катание — напротив, пришли в упадок. Однако Нина Васильевна Леплинская хорошо усвоила основы теории движений Панина-Коломенкина и грамотно обучала поворотам в фигурном катании, руководствуясь принципом встречного движения плеч относительно таза.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: