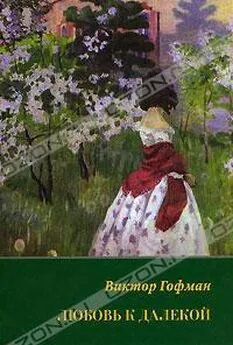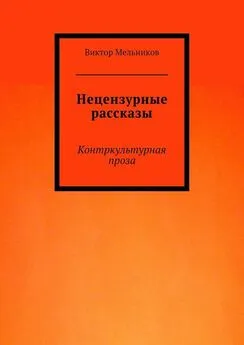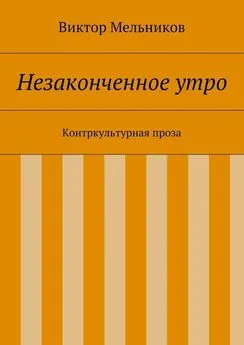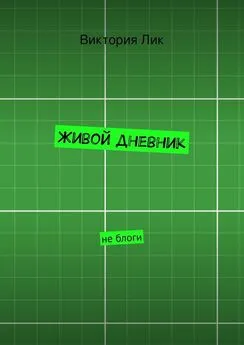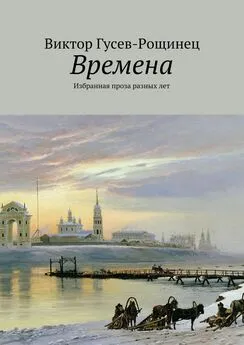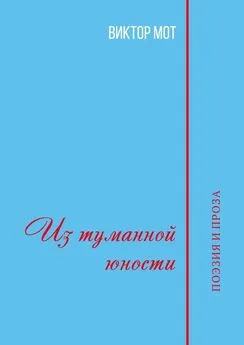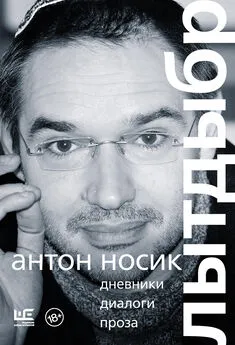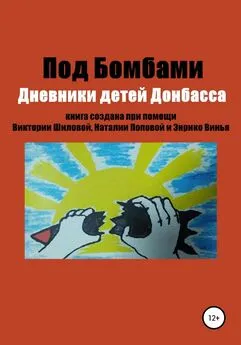Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]
- Название:Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-120168-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] краткое содержание
Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать ещё многие годы.
Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой.
В издание включены фотографии из семейного архива.
Содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если “Елена” – притча, а “Левиафан” – обличительный социальный трактат, то “Нелюбовь” – просто зеркало, поднесённое к глазам зрителя. В сюжете фильма нет ни одного злодея, ни одного персонажа, чьей злой волей объяснялись бы беды остальных героев. Ровно в одном эпизоде на экране появляется персонаж, через которого нелюбовь вошла в фабулу картины, но он – в точности такая же искалеченная жертва, как и все остальные.
Конечно, сюжет и смысл картины можно редуцировать до самой простой трактовки её названия: “мы, россияне, никого не любим, начиная буквально с себя, и экспортируем это состояние в соседнюю страну”. Но это нехитрое умозаключение проще всего делать тому, кто не смотрел фильма. После просмотра хочется думать о других вещах. О природе счастья и его поисках, о воспитании детей, о смысле жизни, об ответственности за тех, кто рядом с тобой, о волонтёрстве, даже об абортах. “Нелюбовь” начисто лишена любой нравоучительности. Фильм никого не обвиняет, не осуждает, не делит героев на положительных и отрицательных, никак не оценивает их поступки. Звягинцев, который, по меткому выражению одного из его актёров, “любит кино больше, чем жизнь”, поставил перед собой внятную художественную задачу: показать жизнь на экране так, чтобы она выглядела абсолютно непридуманной, без элементов шаржа, драматизации, поучения. В героях зрителю предлагается узнавать не “знакомые типажи”, а буквально самого себя в разных жизненных ситуациях. Это потрясающий сдвиг перспективы по сравнению с двумя предыдущими картинами. И самое потрясающее, что этот сдвиг перспективы режиссёру удался на все сто.
Элегия из сборника “Стихотворения Михаила Генделева. 1984. Памяти сословия”
Я к вам вернусь
ещё бы только свет
стоял всю ночь
и на реке
кричала
в одеждах праздничных
– ну а меня всё нет —
какая-нибудь память одичало
и чтоб
к водам пустынного причала
сошли друзья моих весёлых лет
я к вам вернусь
и он напрасно вертит
нанизанные бусины
– все врут —
предчувствиям не верьте
– серебряный —
я выскользну из рук
и обернусь
и грохнет сердца стук от юности и от бессмертья
я к вам вернусь
от тишины оторван
своей
от тишины и забытья
и белой памяти для поцелуя я
подставлю горло:
шепчете мне вздор вы!
и лица обратят ко мне друзья
чудовища
из завизжавшей прорвы.
Помимо того, что “Элегия” – красивейшее из стихотворений Генделева, во вполне традиционном, классическом понимании красоты русского стиха (неслучайно оно открывает цикл “Искусство поэзии” в сборнике 1984 года), этот с виду сюрреалистический текст обременён вполне земными, историко-топографическими смыслами. О которых я и попытаюсь порассуждать.
Условно говоря, всех значимых русских поэтов довольно легко классифицировать по категории числа в их первом лице. У одних лирический герой – это отчётливый “я”, самовыражающий свою особость, свой уникальный, неповторимый, только через него проявленный внутренний мир. Которым они, в общем-то, ни с кем не делятся, они его просто предъявляют, не рассчитывая, что он станет столь же “своим” для читателя, да и не рассматривая такую возможность.
У других лирического героя зовут “мы”. Это тип поэта-пророка, который озвучивает не свою обособленную от мира правду, а некие коллективные установки, которые читатель либо приглашается разделить, либо он их уже разделяет, а поэт их просто облёк в совершенную ритмическую форму, в коллективную молитву и догмат веры.
Довольно легко разобраться, куда в этой нехитрой классификации относятся Пушкин с Лермонтовым. Лермонтов, очевидно, про “я” – и противопоставление себя остальному миру – многократно повторенный рефрен во многих важнейших его стихах. На дорогу он выходит один, на поколение (потенциальный круг “мы”) глядит печально, и парус его одинок. Единственный соратник, с которым Лермонтов образует “мы” – Господь Бог, и союз этот зачастую – лишнее средство отмежеваться от толпы современников: неслучайно в лермонтовском пейзаже Богу внемлет именно пустыня… Пушкин же довольно последовательно – про “мы”: он то и дело озвучивает ценности, опыт и взгляды какой-либо группы, причём групп этих у него не меньше, чем у активного пользователя сети MoiKrug: это и читатели-современники, и братство лицейских друзей, и мятежные декабристы, и даже субъекты российской государственности в конфликте с Польшей…
Очевидно, Мандельштам, Ахматова и Бродский принадлежат к первой категории. Разумеется, у каждого из них можно навскидку вспомнить по стихотворению, где бы лирического героя звали “мы” (“Мы живём, под собою не чуя страны… Мы знаем, что ныне лежит на весах… Мы платили за всех, и не надо сдачи”). Но эти исключения довольно рельефно подтверждают общее правило. Глубину отмежевания Бродского от любых единомышленников, соратников или попутчиков в полной мере выражает стих “Из забывших меня можно составить город”. Мандельштам сообщает: “Я получил блаженное наследство…”, и совершенно ясно, что на всей земле только он один его и получил. Остальные могут до морковкина заговения слушать рассказы Оссиана, могут даже список кораблей дочитать до конца, но того наследства не получат, и поляна им не померещится…
В то же время Пастернак пишет про “мы”, про коллективный опыт и самоощущение. Он даже считает нужным оговорить это прямым текстом:
Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Отличие пастернаковского “мы” от пушкинского – в том, что группа у него в основном одна и та же, это “дети страшных лет России”, круг московско-питерских интеллектуалов, пытающихся пронести свой Серебряный век через ужасы революции, Гражданской войны, разрухи и всего, что дальше за ними последует.
Михаил Генделев – тоже поэт “мы”, поэт-пророк, транслятор коллективного опыта и коллективных ценностей. Но беда в том, что ход и российской, и его персональной истории изначально не дал ему устойчивой референтной группы. Множества, в которые он входит и от имени которых может говорить, весьма неустойчивы, подвижны и произвольны. Ему своё “мы” необходимо сначала выбрать, чтобы от его имени говорить. Причём нельзя сказать, что выбор – всегда свободный.
Изначальная генделевская группа, самая важная для предотъездного (до 1977 года) периода его творчества, сходна с пастернаковской и пушкинской-лицейской. Это питерская богема, безродные космополиты, подпольные поэты, художники и музыканты. Позднее свойства этого “мы” успешно обрисовал не входивший тогда в генделевский круг Борис Гребенщиков:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/1058203/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz.webp)