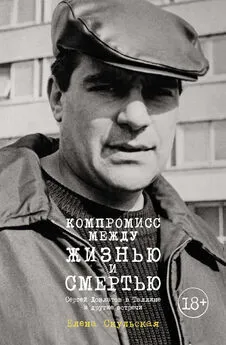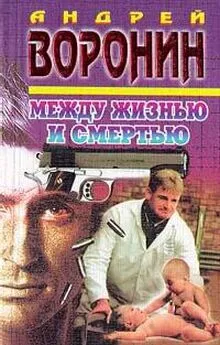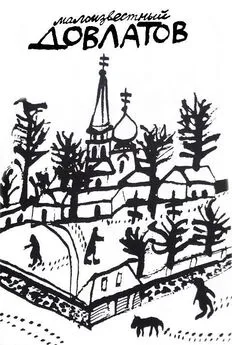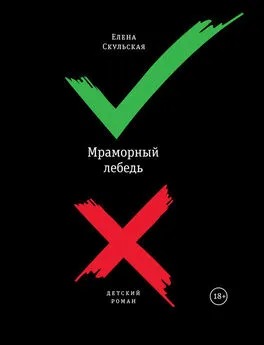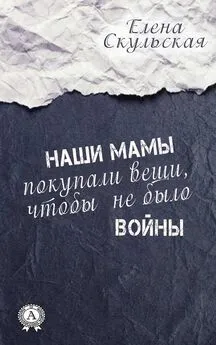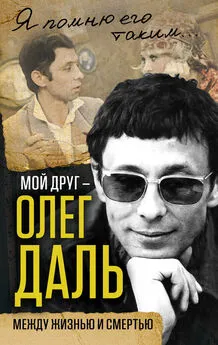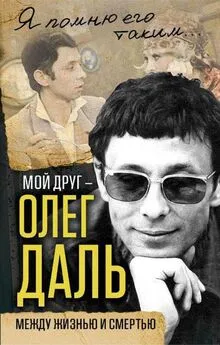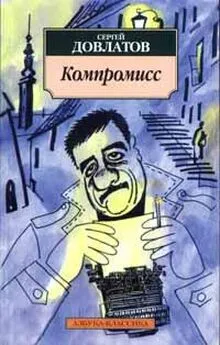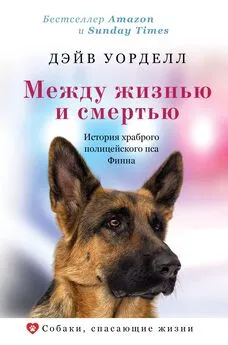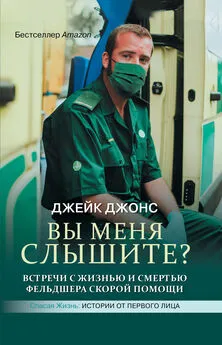Елена Скульская - Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи
- Название:Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-14491-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Скульская - Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи краткое содержание
Эти мемуары уникальны не только своими героями: благодаря бескорыстию и юмору автора, глубине понимания, абсолютному слуху и памяти, умеющей отбирать главное, книга создает неповторимый портрет последней трети минувшего века.
Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мне очень нравилась книга, и она стремительно неслась вперед. И Саня отвечал на мои похвалы и соображения: «Я устал и поэтому отвечаю сентиментально. Спасибо, моя дорогая, за то, что Вы всегда относились ко мне так, как относились. Возможно, я и стоил такого отношения. Но, кроме Вас, этого никто не знал».
Конечно, знали все, кто читал внимательно Самуила Лурье. В ранней молодости, в начале 70-х годов минувшего века, Сергей Довлатов показал мне журнал «Аврора» с рецензией Лурье и сказал: «Так пишет гений».
Самуил Лурье всегда говорил с гениями как бог на душу положит. Гении для него – не начальство, не высшая инстанция, не значительное лицо, но достойные собеседники и не прощают лакейства. В литературе мы не найдем почти примеров изображения гениев персонажами, разве что о гениях пишет гений, и то не всякий решится. Булгаков, например, воздержался выводить Пушкина в пьесе «Последние дни»; для Самуила Лурье не было такой проблемы, он жил среди гениев прошлого, говорил с ними запросто, был понимаем ими и – зачастую – непонимаем современниками. Что же получается у Лурье? Что Пушкин был живым человеком, как и сам Лурье? Не в вечности, не в мраморе, не в бронзе, а в том самом пространстве, где пребываем и все мы. То есть возможно сравнение. Что невыносимо.
Он говорил, что считал жизнь важнее литературы. Не совсем так. Некоторое лукавство. Внутри литературы он себя чувствовал более комфортно, чем внутри жизни: у него дома книги стояли высокими, затейливыми стопками даже на полу, не были частью интерьера, но сбегали с книжных полок и отказывались от стеллажей, прижимаясь к хозяину. Он разыгрывал с персонажами и авторами сложнейшие шахматные партии, притворяясь шекспировским шутом – позволяя фразе бежать с мыслью наперегонки куда глаза глядят.
Есть в текстах Лурье та последняя тупиковая правда, после которой уже нечего делать – поле боя следует отдать под детскую площадку или огород. Но не пугайтесь, оказывается, всё страшное уже позади, ибо эти тексты боязно читать, но сладко перечитывать. Открытия их уже присмирели в вашем сознании, а образы ласкают слух, они как стихи – не унимаются, пока не выучишь их наизусть.
«Александр Блок почти всю жизнь провел, как поэт – как почти никто из поэтов: как гимназист – каникулы». Загадка жизни, сжатая до загадки сравнения. Слава богу, разгадка последней (в отличие, к сожалению, от первой) – невозможна.
Почему-то мне совершенно неуместно сквозь слезы вспоминается, как встречали 2015 год в редакции «Звезды». Накрывали стол, и мне выпало нарезать какой-то редкий даже по нынешним изобильным временам сервелат – его поручил принести в редакцию к новогоднему столу Саня Лурье.
Совершенно непрактичный человек, абсолютно равнодушный к быту, деликатно создаваемому вокруг него женой Элей. То есть он знал множество уникальных деталей быта, если они пригождались творческому портрету его героя: однажды он вел по Петербургу Достоевского нас с Колей Крыщуком и какие-то случайные прохожие, увязавшиеся за его словами, стали задавать ему уточняющие вопросы от беззастенчивого потрясения его знаниями. И он охотно отвечал… Мысль была такая: Достоевский не видел то, что описывал, а потому, как слепец, держался всего, что можно было сосчитать, пощупать, увидеть из окна, освоить каждодневным маршрутом. И еще помню, как Саня показывал мост: взгляд с моста и взгляд на мост; и мост становился живым, он поднимался тяжеловесом в рывке, он отражался в воде, и внимательно следил за нами из-под нее…
Саня очень любил сладкое и немного стыдился этой слабости. Но, преодолевая смущение, когда я спрашивала, что принести к столу, описывал миндальные пирожные, к которым питал особенную слабость…
А на новогодний стол в «Звезду» своим питерским друзьям позаботился организовать из Америки идеальную толковую закуску. И я хорошо справилась с нарезкой – не круглыми ломтями, как режут вареную «докторскую», а наклонными большими тонкими овалами, как в буфете богатых театров. И меня похвалили. И не могу даже теперь объяснить, почему всё это уже имело отношение к истории литературы, к судьбе поколения, к тем людям, которые жили и живут без суетливого лукавства, без выгоды, расчета, но легко – то есть мучительно, – опираясь исключительно на совесть и талант; Андрей Арьев и Яков Гордин – соредакторы объявили тогда, что в первый номер нового года успела попасть повесть Сани «Меркуцио», посвященная Геннадию Комарову… Начинается так:
«Составляю предложения. Скрепляю обдуманную, по возможности, лексику – осмысленным, по возможности, синтаксисом. Никогда ничего другого не умел – умею ли все еще?
Какие там, на гаснущем багровом небе внутри черепа беззвучно рвутся по швам облака.
Словесный автоскан головы.
Забавляюсь, короче. Je m’amuse. Как Фердинанд VIII. Как Франциск I.
Посему и считалка – не: шла машина темным лесом за каким-то интересом, – а из Жуковского:
Перед своим зверинцем с баронами, с наследным принцем король Франциск сидел. С высокого балкона он плевал, – короче, все равно выходи на букву С. Или Л. Или Ш».
Он переживал, что в воспоминаниях его слова будут шулерски передернуты, переиначены, перекошены. Но так ведь всегда бывает с воспоминаниями. Много лет назад, сочиняя о своих друзьях документальную повесть, я описала такой эпизод: поздним вечером в Доме творчества писателей в Комарове выпивала большая компания. Не хватило. Возникла версия, что у Сани Лурье, который давно отправился спать, вдруг да и припрятана маленькая. Положили, что пойти за ней должна я – единственная дама в компании; Саня, было решено, даме не откажет. Я пришла, Саня что-то читал, я, помявшись, начала издалека:
– Тут так холодно, Саня! Я всё время мёрзну!
– Зачем же вы мёрзнете, – отозвался Саня, – бросьте эти рахметовские штучки; у меня есть в номере второе одеяло, совершенно мне не нужное, забирайте!
С тем я и ушла. И описала, значит, эту легкую Санину издевку над нашей засидевшейся компанией. Саня прочитал и дал свое согласие на публикацию. Итак, прошло много лет. И незадолго до смерти в шутливой записке из Америки Саня написал: «Думаю, я могу к Вам обратиться с маленькой просьбой, ведь тогда в Комарове я дал Вам то ли одеяло, то ли маленькую». То есть, конечно, пошутить пошутил, но послал тогда на наш стол свою заначку, а я об этом не написала, сочтя, что для повести будет выгоднее оборвать эпизод…
Почему-то эта ерунда теперь очень важна, как и всё, что связано с Самуилом Лурье. Важно не только то, что он написал, но и что говорил, каким был в ничтожных мелочах. Именно ничтожные мелочи порой говорят о человеке больше, чем многословные полотна. Я помню, как меня поразила его реакция на мои слова об одном человеке (которого он не знал): я рассказывала некую забавную историю об этом человеке и завершила ее так: полагаю, он был стукачом. Саня (он говорил всегда очень тихо) закричал, если так можно сказать, закричал навзрыд:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: