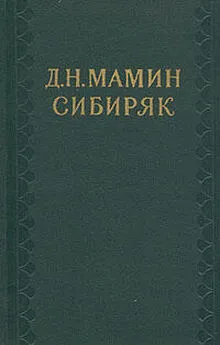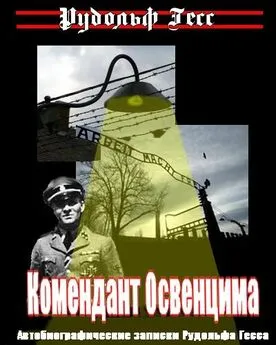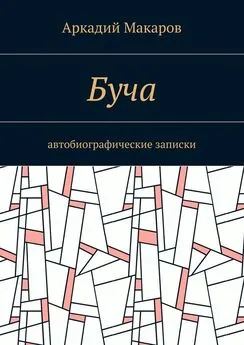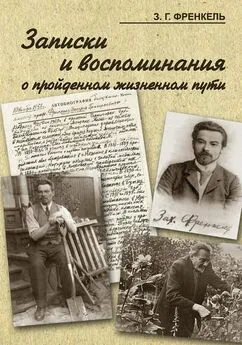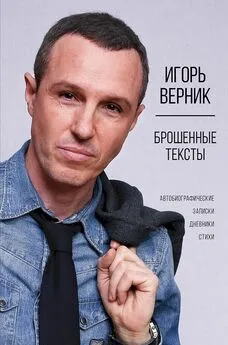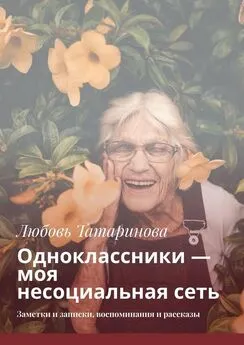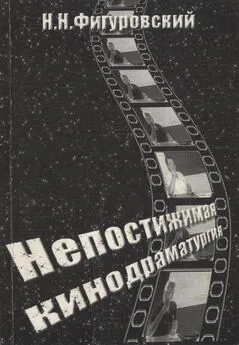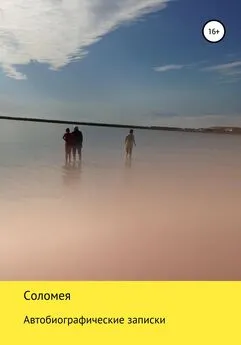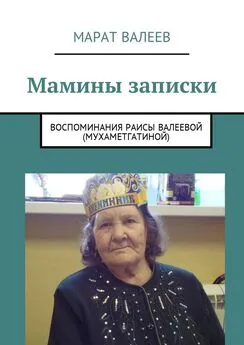Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]
- Название:Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Янус-К
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8037-0441-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания] краткое содержание
Воин и ученый — он принимал участие в важнейших событиях нашей страны — в становлении вооруженных сил, развитии науки и зарождении новых исследовательских направлений, в подготовке и воспитании отечественной научной интеллигенции.
Мемуары Н.А. Фигуровского содержат обширные сведения о жизни и творчестве сотен деятелей науки, культуры и просвещения Москвы и являются ценнейшим историческим источником.
Книга предназначена для специалистов и широкого круга читателей.
Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сейчас мне звонил Феодосий Вознесенский (из Дубны), с которым в компании протекли годы детства и ранней юности. Ему тоже будет на днях 70. Надо встретиться и отметить.
31 октября 1971 г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 3.
ЧАСТЬ I
(1901–1920 гг.)
Что мне известно о моих предках и ближайших родственниках
Почти все мы, русские простые люди, не знаем своих предков дальше бабушек и дедушек. Впрочем, и о них-то мы знаем часть лишь со слов родителей, особенно если мы никогда не видели этих уже «далеких предков». Так и у меня. Я помню в лицо лишь свою бабушку по матери Лизавету Степановну Сынковскую, которая в годы моего детства жила у тетки (своей дочери) Марии Павловны Вознесенской, в «Соборном» доме, как раз над квартирой, занимавшейся нашей семьей. Я уехал с родины из Солигалича, когда мне не было еще полных 14 лет, и с тех пор не видел бабушки. Впоследствии, лет через 30, обнаружилось, что я забыл то немногое, что знал о бабушке. Почему-то я был уверен, что она умерла, когда мне было лет 7–8, но мать сообщила мне, что бабушка Лизавета умерла в 1918 г.
Этот провал в памяти заставил меня осторожнее относиться к своим воспоминаниям и проверять уцелевшие (или сложившиеся) в памяти сведения у матери, которая прекрасно помнила очень много из прошлого. Я посещал мать в Доронже (недалеко от Кинешмы) ежегодно (после войны), иногда — дважды в год и пользовался этим, чтобы послушать ее рассказы о давно прошедших временах, событиях и людях и сопоставить все это со своими воспоминаниями. Многое из записанного мною заимствовано из ее рассказов. Кое-что иногда рассказывал и отец. Пользуясь этими рассказами и начну:
Мой отец, Фигуровский Александр Иванович (1878–1943), происходил из села Татьянина, бывшего Нерехотского уезда Костромской губернии. Это село находится в 17 км от железнодорожной станции Космынино, между Нерехтой и Костромой.
Мой дед по отцу Фигуровский Иван Иванович (приблиз. 1832–1892) был дьячком церкви в селе Татьянино. Его отец — мой прадед Иван (отчество утрачено), вместе с прабабушкой были коренными жителями Татьянина. Прадед был там также дьячком и, по-видимому, потомственным.
Вероятно, именно мой прадед в 20-30-х гг. XIX в., будучи учеником Костромского духовного училища, и получил нашу фамилию — Фигуровский. Тогда фамилии поступавших в училище давались инспекторами. Поводом для получения такой фамилии было, вероятно, прозвище, данное деду его товарищами, — «фигура». (Так в детстве «дразнили» отца и меня товарищи по учебе). Отмечу, что мои предки по отцовской линии были невелики ростом и, может быть, это обстоятельство было связано с прозвищем 3.
Фамилия Фигуровских имеет своих представителей не только в Костромской, но и во Владимирской, Горьковской и других областях. Известно несколько видных представителей этой фамилии в Ленинграде, Москве, на Кавказе и т. д. Наиболее вероятно, что корень этой фамилии находится в селе Татьянине.
Прадед Иван с прабабушкой имели многочисленную семью — 7 или 8 человек, старшим из которых был мой дед Иван Иванович. Около 1850 г., когда деду было всего 12 лет, по Поволжью прокатилась очередная эпидемия холеры. В те времена это было довольно часто. В один прекрасный день холера унесла прадеда и прабабушку, но… пощадила всех детей. Таким образом, Иван Иванович, будучи мальчишкой, неожиданно сделался главой многочисленной семьи. 7 или 8 его братьев и сестер, мал мала меньше, стали его иждивенцами.
Как жила эта несчастная семья без всяких средств к существованию, трудно себе представить. Видно, помогали добрые люди. Эти же добрые люди через два года после катастрофы выпросили у Костромского архиерея разрешение — деду Ивану Ивановичу занять место его отца в качестве дьячка в селе Татьянине, несмотря на то, что ему было всего лишь 14 лет. Но этого было мало для обеспечения семьи. Дьячковские «доходы» были настолько мизерны, что не избавляли семью от настоящего голода. Средства к существованию дьячки получали, как и все крестьяне, от земли (приписанной к церкви). Но землю надо было уметь обрабатывать и иметь для этого достаточно сил.
Вот почему «добрые люди» добились у архиерея еще одного разрешения — на женитьбу деда, когда ему стукнуло 16 лет. Подыскали ему жену — работницу (она была на 2–3 года старше деда), которая вначале должна была тянуть основную лямку в поле и как-нибудь кормить детей. Бабушку звали Анной Григорьевной. О ней я почти ничего не знаю. Слышал лишь от отца и его сестры, моей тетки Авдотьи, да и от случайных людей, помнивших бабушку, что вся ее жизнь была тяжелой непрерывной работой, не лучше любого рабства. Умерла она рано, всего лишь в 50-летнем возрасте.
Брак деда оказался весьма счастливым. Не прошло и 15 лет после женитьбы, как к 7 братьям и сестрам прибавилось 8 собственных детей. Удивительно, что, несмотря на нужду, дети не умирали (вероятно, однако, несколько детей умерло). В те времена детская смертность считалась вполне естественным явлением.
Отец рассказывал мне, что в годы его детства на обед за стол садилось почти 20 человек. Хлебали из двух больших деревянных мисок, соблюдая особую дисциплину в порядке еды 4.
Огромная семья деда жила в бедности. Весной, когда иссякали заготовленные на зиму запасы, варили крапивные щи, хлеб пекли с большой примесью измолотой сосновой коры. С нетерпением и надеждой ждали нового урожая. Новый хлеб начинали есть когда зерно находилось в периоде восковой спелости. Тогда шли в поле, сжинали несколько снопов и сушили дома в печи. Молотили чуть не руками, тщательно выбирая все зерна из колосьев. Потом зерно мололи на ручном жернове, заваривали муку кипятком, солили и с голодухи ели досыта такой клей. Кушанье это выразительно называлось «повалихой», так как после его употребления происходило острое расстройство желудка, иногда с резкими болями и рвотой.
Мне пришлось самому однажды попробовать повалиху. Было это, вероятно, в 1922 г. у Пречистой (см. ниже). Отец, незадолго перед тем переехавший в это село, не успел еще наладить хозяйство, и семья всю зиму жила впроголодь. И вот, когда в июле я приехал из армии на побывку, есть было нечего и собственно для меня сделали повалиху. Свое название она полностью оправдала.
Повалиха — старинное кушанье. Голодуха в старой России была далеко не редкостью. Обильной матушка Русь была лишь в нечастые урожайные годы. В неурожайные годы на почве голода возникали болезни, часто повальные — холера, дизентерия, тиф и прочие, уносившие чуть не миллионы жизней. Особенно велика была смертность детей. Выживало иногда менее половины родившихся детей.
При часто повторявшихся голодухах, совершенно неправильном питании и, видимо, употреблении водочки мой дед приобрел хроническую желудочную болезнь. Он умер еще до моего рождения, как тогда говорили, от «катара желудка». Отец рассказывал, что местные эскулапы советовали ему питаться получше, отказаться от употребления грубой пищи. Но дед был не в состоянии выполнить эти советы даже тогда, когда его огромная семья распалась. Все разбрелись по белу свету, каждый зажил собственной жизнью. Дома оставались только калеки, не вышедшие замуж девицы и старики. Кажется, однако, у деда к концу его жизни никто не висел на шее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/1060000/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie.webp)