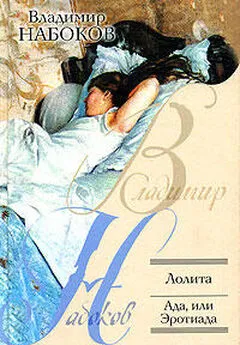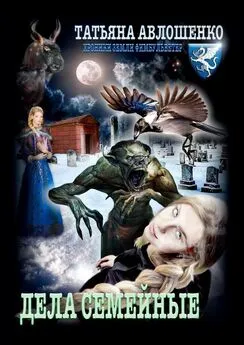Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника
- Название:Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-1575-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника краткое содержание
Семейная хроника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из тюремной канцелярии нас повели в сводчатые подвалы 1-го корпуса — нечто вроде распределительного пункта, откуда в продолжение двух ночей женщин вызывали на допрос. С этих допросов они возвращались совершенно разбитыми. Жену инженера завода комбайнов Бородулину внесли на руках в глубоком обмороке. Среди арестованных возникло искусственно созданное паническое настроение, и в центре этой паники стояло имя «Орлов», имя, которое произносили только шепотом, как нечто очень страшное.
После долгого и тяжелого допроса Александру Ивановну Скобельцыну со мной разлучили. Она была переведена в одиночку. Встретив в камере Вареньку Ланскую, я узнала, что на ее мужа ордера не было, и оставалась надежда, что он останется дома и Надя не будет брошена на произвол судьбы. Однако эта надежда не оправдалась: по тюремным каналам мы узнали, что он, хотя и с некоторым опозданием, оказался в одной из камер 1-го корпуса. Такой же слух прошел и о Владимире Львове; это было последнее, что я о нем слышала.
Так как Саратовская тюрьма никак не могла вместить столь быстро возросшее осенью 1937 года население, под женщин приспособили находившееся в глубине двора длинное одноэтажное помещение тюремных мастерских, куда после трехдневного пребывания в подвалах 1-го корпуса и перевели нашу 58-я статью. Новое жилье, в котором нам предстояло пробыть до весны, было менее мрачно, чем обычные камеры, и представляло собой большой светлый сарай, продольно разделенный на две половины. В каждой помещалось по 75 женщин.
Самый неприятный момент тюремной жизни (конечно, если не считать допросов) — это, как я говорила, хождение со всеми вещами в баню. В Саратове этот момент был скрашен надеждою узнать что-нибудь о других заключенных по записям на стенах. Ничего интересного для меня я в этих записях не нашла, но навсегда запомнила нацарапанное над входом изречение: «Кто не был, тот будет, кто был — тот не забудет!»
Однако, прежде чем описать наши тюремные будни, я хочу сказать несколько слов о самой существенной части моего заключения: о следственных мероприятиях.
Насколько я могла судить, следователи 1937 года прошли одни и те же методико-подготовительные курсы, и их приемы были более или менее стандартны. Дело начиналось с вопроса: «Знаете ли вы, что сказал Горький о враге, который не разоружается? Он сказал, что „его уничтожают“. Вот вы и будете уничтожены!»
Должна оговориться, что столь «обнадеживающие» вступления делались лишь в помещении НКВД на одной из центральных улиц, куда возили на допрос не всех, а только избранных. Допросы в тюремной канцелярии были гораздо проще и, по существу, сводились к заполнению анкеты. Результаты были одни и те же — 8 или 10 лет, но не было трепки нервов.
Пройдя через допрос в тюрьме, я уже успокоилась, как вдруг, в одну прекрасную ночь, меня разбудили и повезли в НКВД к следователю Дудкину, пользовавшемуся плохой славой и, по-видимому, ведшему дело Скобельцыных. Поскольку я присутствовала на встрече Нового года и сидела за одним столом с легендарным Орловым, от меня желали добиться разоблачения тайн этого «преступного сборища».
За три допроса добились весьма малого: я признала, что Орлов назвал саратовских студентов ослами; под всеми другими обвинениями написала: «отрицаю». Это мне далось нелегко, и потому доставило удовольствие увидеть «пустые» протоколы 17 лет спустя, когда меня вызвали в Кировское НКВД для реабилитации. Тогда же беседовавший со мною полковник Мамаев в виде шутки сказал: «Ах, Татьяна Александровна! Как же это так? Вы, такая благовоспитанная дама, и вдруг говорили, что студенты — ослы?» «Говорить я этого не могла, — возразила я в том же тоне, — так как этих студентов никогда в глаза не видела, но действительно слышала такое мнение и за это получила восемь лет!» Беседа закончилась пословицей: «Лес рубят — щепки летят!»
Но возвращаюсь к 1937 году. По сравнению с другими, Дудкин был ко мне милостив: он заставил меня «думать», сидя на стуле, а не стоя на ногах до потери сознания; отправив в тюремный карцер «для размышления», продержал там не более часа и, бросив в меня мраморное пресс-папье, как мне кажется, нарочно промахнулся.
В ходе допросов были такие разговоры:
Дудкин : — Потрудитесь сообщить, что было на вечере у Скобельцыных.
Я : — Я читала свои стихи.
Дудкин : — А вот это меня совсем не интересует!
Я : — Мне это обидно как поэту, но ничего более интересного я сообщить не могу.
Или:
Дудкин : — Ваш сын, несомненно, занимает высокий пост во французской армии?
Я : — Ему 21 год, и я не думаю, чтобы он успел дослужиться до генерала.
Дудкин : — Ну, во всяком случае, он… сержант.
Эти слова приобрели весьма смешной смысл после того, как я узнала, что сам Дудкин, несмотря на свою громкую славу, носит только этот чин. Как-то раз в кабинет вошел сотрудник очень странной, отталкивающей внешности: он был мал ростом, с большой, лишенной всякой растительности головой. Дудкин указал ему на меня, и из дальнейших разговоров я поняла, что этот дегенерат допрашивал Владимира Львова.
В приведенной мною в виде эпиграфа справке значится, что решение по моему делу было принято 4 декабря, но это — ошибка. Следствие было закончено лишь 24-го числа; тогда же и был вынесен приговор: «восемь лет исправительно-трудовых лагерей по литере КРД».
До апреля месяца я, как и все мои товарищи по несчастью, пребывала в полном неведении о своей судьбе. Постановление тройки нам объявили только весною, и все зимние месяцы, пока мы сидели по камерам, на севере страны срочно готовили исправительно-трудовые лагеря, которые должны были нас исправлять. Но, повторяю, мы об этом ничего не знали и старались, по мере возможности, скрасить «тюремные будни».
Население нашей камеры было весьма разнообразно. Достаточно сказать, что я там встретила мадам Кладо и подругу ее дочери К. — авторов подложных мемуаров Вырубовой, о которых я упоминала в одной из предыдущих глав. Мадам Кладо была стара и немощна, но К. находилась в расцвете сил и к тому обладала прекрасной памятью. В долгие зимние вечера она, прислонившись к печке, с поразительной точностью пересказывала нам пьесы Шекспира. Помню, как, затаив дыхание, мы слушали описание шабаша ведьм из «Макбета». Из полумрака до нас доносились предсказания:
Да здравствует Макбет — тан Гламисский!
Да здравствует Макбет — тан Кавдорский!
— и мы думали: «А кто нам предскажет нашу судьбу?!»
Иногда, прислонившись к той же печке, доктор Ольга Александровна Полторацкая читала популярные лекции о туберкулезе. Как-то раз я выступила с гумилевскими «Капитанами», но главным моим развлечением было раскладывание пасьянсов, что стало возможным после того, что я собственными силами изготовила две колоды карт.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: