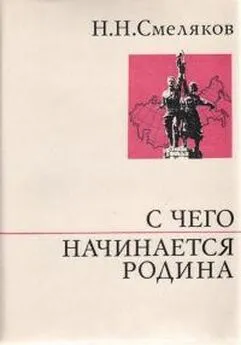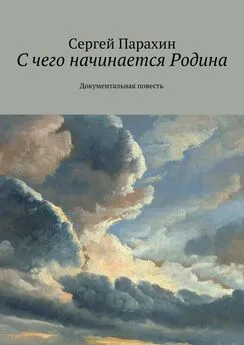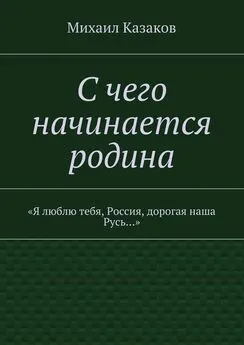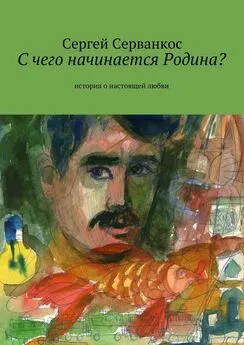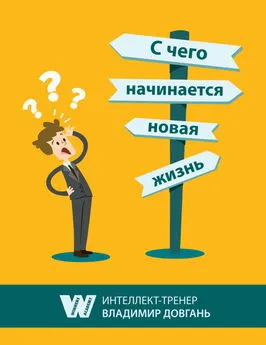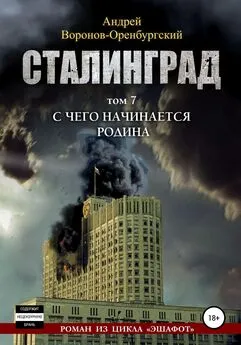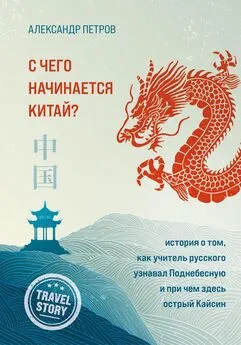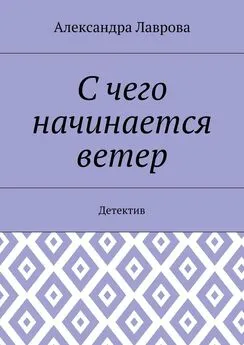Николай Смеляков - С чего начинается Родина
- Название:С чего начинается Родина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1975
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Смеляков - С чего начинается Родина краткое содержание
Книга рассчитана на массового читателя.
С чего начинается Родина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вера в партию была безграничной. Коммунистическая партия была главной организующей силой для всех трудящихся. Партия использовала весь свой огромный опыт политической работы, все способы воодушевления людей в трудное время, сплочения их под революционным ленинским знаменем.
Однажды на Сормовский завод приехал Петр Андреевич Заломов — участник революционного движения с 90-х годов прошлого века, послуживший прообразом Павла Власова — героя романа А. М. Горького «Мать», тот самый Петр Заломов, сормовский рабочий, входивший в группу искровцев, убежденный сторонник Ленина. Старые сормовичи помнили его как знаменосца широко известной демонстрации 1 мая 1902 года, когда более 5 тыс. рабочих вышло на улицу. Во время схватки с полицией Заломов с красным знаменем пошел на штыки солдат. «Это был высший момент счастья в моей жизни», — рассказывал Петр Андреевич. Затем арест, тюрьмы и суд. Кто из нас не знал его выступления? Сила его убежденности была выражена в словах: «Самое большее, что в их власти, — это отнять у нас жизнь. Вот, если бы они могли отнять у нас наши убеждения, это было бы действительно ужасно. У нас против наших врагов есть сильнейшее оружие — это вера в правоту нашего дела, вера в близкую победу». В этих словах все: и вера в свои силы, и вера в светлое будущее.
На заводе прошло собрание с участием Заломова. Его присутствие имело огромное значение. Он как бы олицетворял революционный рабочий класс России. С волнением всматривались мы в этого человека. Пусть это был уже не тот молодой рабочий, с темной бородой и горящими глазами, но он оставался Павлом Власовым, героем пролетариата, героем революции. Его имя воодушевляло людей. Заломов говорил медленно, тихо, но каждое его слово огнем врывалось в сердца людей, укрепляло веру в собственные силы. Старик Петр Заломов мало говорил, но многое сказал. Ему верили, а это главное…
…В тяжелых и напряженных заводских буднях рождались новые герои труда. Помню молодого парнишку Сережу Арефьева, пришедшего на завод из ФЗУ. Был он небольшого роста, с курносым лицом, озорными серыми глазами. Сережа работал на формовочном станке, а месяца через два стал бригадиром формовщиков. Бригада — это четыре человека, рольганг и два формовочных станка. На одном делался низ, на другом верх формы. Работа происходила на конвейере, а конвейер требовал трудиться в ритме с другими и не тратить время попусту. Сережа это отлично понимал, никогда не суетился и не спешил. Его движения были скупыми и точными. Присматривался, кто как работает, какие у них получаются отливки. Сережа попросил перевести к себе в бригаду младшего брата. Мастер это сделал не сразу. Ему желание Сережи показалось прихотью: не все ли равно с кем работать? Затем бригадир попросил заменить еще одного члена бригады. Старший Арефьев готовился к хорошей устойчивой работе.
Он не был рационализатором, не просил переставить оборудование, не изобретал нового инструмента, не предлагал новой технологии. Но Сережа подбирал товарищей по своей мерке, тех, кто не собьется с темпа, с кем можно не бояться за качество работы. Его творчество заключалось в выработке поистине артистической ловкости при выполнении операций и в тщательно продуманном разделении труда между товарищами. Члены бригады замечали, как работает Сережа, но редко успевали за ним. Он увлекал других своей виртуозностью. Темп работы был молодежный, неутомимый и задорный. Бригада действовала так, что всем было радостно за ее успехи. Без торжественных заявлений, без красивых жестов молодежь давала столько форм, сколько две-три соседних бригады.
Все цеховые службы были вынуждены перестроить темп своей работы, подлаживаясь под бригаду; в землеприготовительном отделении, или, как его звали в обиходе, земледелке, пришлось поставить дополнительное оборудование. Ремонтники модернизировали редукторы на смесителях, увеличили мощность моторов, с огромными трудностями создали запас резервных моторов, узлов и целых агрегатов.
Темп работы бригады Сережи Арефьева заставил преодолеть застой плавильного отделения, хотя никаких капитальных работ в нем не было проведено. Просто Иван Васильевич Карев — сталевар электроплавильной печи — видел, как заполнялись рольганги готовыми формами, и он действовал. Металл нужен был по часовому графику. Это требование конвейера, подчинение ритму явилось для сталевара делом само собой разумеющимся. За 30 лет своей жизни Иван Васильевич успел научиться варить разные марки стали, быстрыми и энергичными движениями заправлять подину печи, дирижировать крановщиками, когда выпускается плавка, незаметно для других кивком головы подать знак работнику пульта, одним взглядом оценить состояние подготовки ковша не только к очередной, но и к будущей плавке. Отличался Иван Карев особой легкостью походки и движений. Носил всегда чистую косоворотку, непременно темной расцветки. На нем ловко сидела даже плохо сшитая брезентовая куртка. Когда его спрашивали, почему он не носит новые валяные сапоги, которые с большим трудом наши снабженцы доставали для сталеваров, он отвечал:
— Для работы новые валенки неудобны. Я сначала их отдаю жене, а когда она разносит, подошью и беру на работу.
При этом Иван Васильевич улыбался, показывая крупные белые зубы.
В начале 1943 года мы с Иваном Васильевичем впервые распаковывали графитовые электроды, прибывшие из далекой Америки. По сравнению с самодельными они казались просто чудом. Их диаметр был значительно больше наших. К месту распаковки собрались сталевары с других печей. Огромное черное тело электрода радовало людей, знающих цену такому добру.
— Так вот он, этот самый ленд-лиз, — произнес кто-то из присутствующих.
— Наконец-то, он докатился до нас! А то ведь получается вроде второго фронта: про него говорят, а не открывают, — добавил Карев.
За время войны мы уже отвыкли от хорошей упаковки. У американских фирм винты, или, как их называют, ниппеля для соединения электродов, были уложены в отдельные коробки. Каждый обернут гофрированным картоном, чтобы не испортить нарезки. В одном ящике мы обнаружили бумажку с изображением пятиконечной красной звезды и надписью, насколько помню, примерно, такого содержания: народ Америки приветствует борющуюся Россию. Эти слова, написанные на русском языке, взволновали присутствующих.
Электроды оказались хорошего качества. При работе на них легко поддерживался устойчивый режим, повысилась производительность печи. Кончилась частая смена электродов, прекратились их поломки. На пятитонной электрической печи, где впервые установили американские электроды, их не меняли почти месяц. Это радовало. Теперь формовщики не успевали давать нужного количества форм, хотя производительность у них к этому времени поднялась в 2 раза. Нужны были свои Арефьевы на всех станках. И они появились.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: