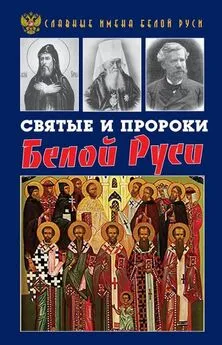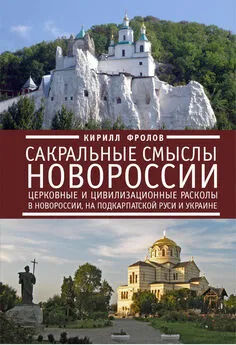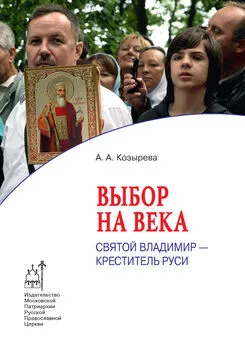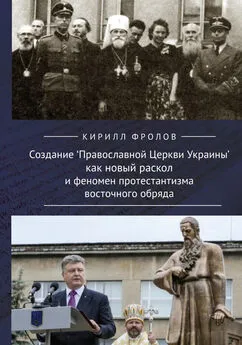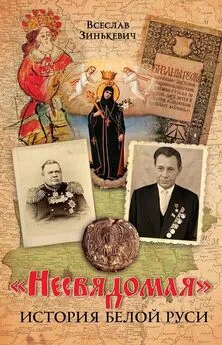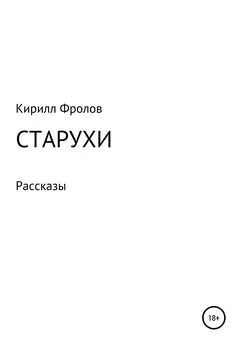Кирилл Фролов - Святые и пророки Белой Руси
- Название:Святые и пророки Белой Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2020
- ISBN:978-5-6041886-0-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Фролов - Святые и пророки Белой Руси краткое содержание
О том, что бывает, когда у обманутых русских людей открываются глаза на обман, свидетельствует приводимая в книге история святого брестского игумена Афанасия (Филипповича). Когда этот образованнейший белорусский юноша узнал о том, что литовский канцлер Лев Сапега использовал его против России, сделав воспитателем готовившегося канцлером марионеточного правителя оккупированной России, Филиппович стал монахом и добрался до русского царя Михаила Федоровича Романова, рассказал ему о готовящемся против него и России заговоре и оккупации. Затем, вернувшись в Брест, посвятил свою жизнь борьбе с унией и за воссоединение Великой, Малой и Белой России, стал идейным вдохновителем православного русского восстания во главе с гетманом Богданом Хмельницким, за что три раза арестовывался, подвергался страшным пыткам и в итоге был расстрелян оккупантами. Описанные в книге борьба и подвиг «святого белорусского партизана» игумена Афанасия и многих таких, как он, святых и пророков Белой Руси откроют глаза и станут примером для многих обманутых антиправославной антирусской (следовательно – антибелорусской) пропагандой и позволят остановить готовящийся в Белоруссии «украинский» сценарий, а также приблизят час неизбежного воссоединения Великой, Малой и Белой Руси, важным шагом к которому станет реальное строительство Союзного Государства Белоруссии и России.
Святые и пророки Белой Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Затем Лаврентий пишет ««Большой Катехизис» или «Оглашение», но ни в Вильне, ни Киеве издать его не может вследствие новой волны гонений на православных после убийства униатского архиепископа Иосафата Кунцевича. Лаврентий отправляется в Москву, где Патриарх Филарет (Романов) требует от него исправить догматические ошибки в вопросе отношений Лиц Святой Троицы. Зизаний соглашается при условии отказа от авторства — при публикации «Большой Катехизис» выходит не под его именем.
У Зизания была еще одна проблема: сначала тайно унию принял крупнейший апологет Православия архиепископ Мелетий Смотрицкий, для которого компрометация такого мощного оппонента унии, как Лаврентий Зизаний, стала уже профессиональной задачей.
Да, история борьбы за Православие и русское воссоединение — это не только история побед. Это и история предательств. Серьезный удар по Виленскому братству нанесли измены Православию таких его активных фигур, как Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и архиепископ Мелетий Смотрицкий. Если Кириллом руководила обида за осуждение «латинозависимости» его сочинений, то Мелетия, вследствие его реальных заслуг перед Церковью, никто не «обижал». Предательство Мелетия Смотрицкого напоминает антицерковный разворот ряда современных бывших апологетов Церкви, таких как протодьякон Андрей Кураев или архим. Кирилл (Говорун). Мелетий тоже не сразу открыл свое униатство, вышеперечисленные же наши современники, формально находясь в лоне Церкви, воинствуют на Нее. Ни их, ни Мелетия Церковь не «обижала» и, каковы ни были бы их мотивы, их предательство является фактом. Лаврентий Зизаний принимает участие в Киевском соборе 1628 года, осудившем Мелетия Смотрицкого. Последние годы жизни протопоп Лаврентий Зизаний проводит в Корце. После этих событий центр церковной жизни Западной Руси перемещается в Киев — Виленское братство постепенно сходит на нет и возрождается уже только «Моисеем белорусского народа» митрополитом Иосифом (Семашко).
Приведем заголовки изданий Виленского братства, чтобы убедиться, что языком Западной Руси был русский, а не «староукраинский», «старобелорусский» или какой иной: «Евангелие учителное, албо Казаня на кождую неделю и свята урочистыи Каллиста, Патриарха К-польского» (Евье, 1616), «Духовный беседы о доконалстве христиан православных» прп. Макария Египетского (Вильна, 1627), «На Отче наш выклад 3 грецкого на руский» (Вильна, 1620) архим. Леонтия (Каровича), Мелетия Смотрицкого «Грамматики славенския правилное синтагма» (Евье, 1619), «Грамматика, албо Сложение письмени, хотящим ся учити славеньского языка малолетним отрочатом» того же автора (Вильна, 1621), «Киновион, или Изображение евангелского иноческого общого жития, от святых отец вократце собранно» (Евью, 1618; возможно, представляет собой устав братского Свято-Духова монастыря), «Казание двое: одно на Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, другое на Успение Пречистое и Преблагословенное Владычицы нашое Богородицы Приснодевы Марии» (Евье, 1615), а также два «Слова» на погребение архим. Леонтия: «Лямент у света оубогих на жалосное преставление… отца Леонтия Карповича» (Вильна, 1620) и сочинение архиеп. Мелетия (Смотрицкого) «Казанье на честный погреб… Леонтия Карповича, номината епископа Володимирского и Берестейского, архимандрита Виленского» [114] http://www.pravenc.ru/text/l 58638.html
(Вильна, 1620).
Виленское братство практиковало как миссионерско-полемические, так и правовые политические методы борьбы с унией — иски в суды с требованиями защиты прав Православной Церкви. Братство столь же эффективно занималось «фаундрайзингом» и, по свидетельству униатского митрополита Иосифа-Вениамина Рутского, собирало среди православного русского народа немалые средства на антиуниатскую «контрмиссию». Говоря о русском языке православных западнорусских братств, необходимо описать языковую ситуацию в Западной Руси. Она обрисована в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.). В ней описывается «Lingua sacra», или «словенороссийский язык» (так именовался цер-ковнословянский) — высокий книжный язык, язык богослужения и богословия, «lingua slavonica» или «проста мова», — гражданский, светский литературный и деловой русский язык, и «lingua popularis» — диалектная речь [115] Б.А. Успенский «Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX в.в.) М, 1994.
. В Киеве в 1627 г. «протосингел от Иерусалимского патриаршего престола и архитипограф Российский церкви» ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь «Лексикон словенороссийский, или Слов объяснение». В нем «руская» речь (в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет «просту мову» «российской беседой общей») противопоставляется народным диалектам — «волынской» и «литовской» мове. Кодификация «словенороссийского» языка была произведена в основном в Киеве, Львове и Вильне. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого стала учебником церковно-славянского языка для всей Русской Церкви буквально на века. «Проста мова» стала основой общерусского литературного языка: «…Действительно, «проста мова» не оказала почти никакого влияния на современный украинский и белорусский литературный языки… Однако на историю русского литературного языка «проста мова» как компонент юго-западнорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об антитезе «русского» и «церковнославянского» языков, то мы следуем именно югозападнорусской, а не великорусской традиции… Это связано с тем, что условно называется иногда «третьим южнославянским влиянием», т. е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в XVII в.: во второй половине XVII века это влияние приобретает характер массовой экспансии югозападнорусской культуры на великорусскую территорию» [116] Б.А. Успенский «Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX в.в.) М, 1994.
.
«Говорят, что Петр Великий гражданскую печать выдумал, а, оказывается, он просто-напросто заимствовал ее у галичан и у прочих малорусов, которые употребляли ее еще в XVI в. Заголовки многих грамот и статутов, виденные мною в Ставропигии, начерчены чисто нашими гражданскими буквами, а текст, писанный в XVI в. — очевидный прототип нашей скорописи и нашей прописки елисоветинских и екатерининских времен» [117] «Галичина и Молдавия. Путевые письма Василия Кельсиева, С-Петерб., 1868.
.
Что касается диалектов — «волынской», «литовской» и многих других мов, — то о «целесообразности» создания на их основе местных литературных языков лучше всего сказал замечательный галицко-русский историк Денис Зубрицкий в своем письме к М.А. Максимовичу: «…Ваши мне сообщенные основательные и со систематической точностью изданные сочинения — откуда идет русская земля, и исследование о русском языке читал я с величайшим любопытством и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечтательные утверждения писателей и выдумки как о происхождении народа, так и о русском языке, которые мне всегда не нравились… Что касается до наречий русского языка, то их бессчетное число; внимательный наблюдатель, странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне, хотя и неприметное различие в произношении, изречении, прозодии, даже в употреблении слов, и весьма естественно. По исчислению г-на Шмидель (Literarische Anzeiger, 1882 г.) есть 114 наречий немецких столь одно от другого расстоящих, что немец друг друга никогда не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и, невзирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно словесное наречие. Я бы желал, чтобы и русские тем примером пользовались…» [118] Путями истории, Т.2. Изд. Карпаторусского литературного общества, Нью-Йорк, 1977
.
Интервал:
Закладка: