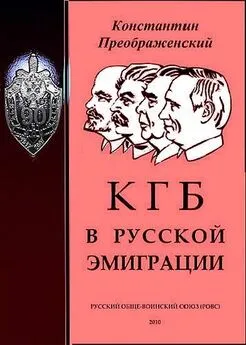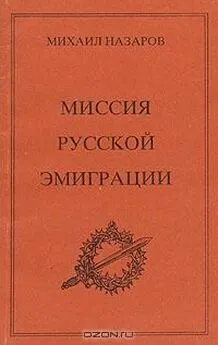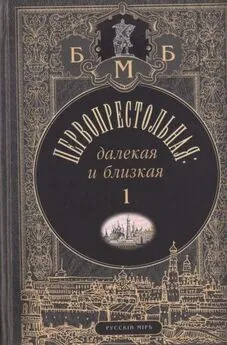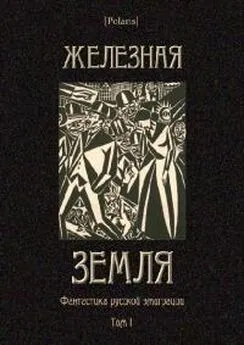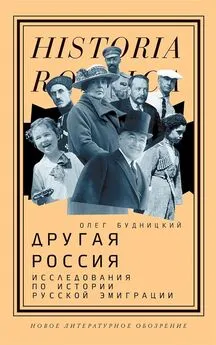Роман Гуль - Я унес Россию. Апология русской эмиграции
- Название:Я унес Россию. Апология русской эмиграции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Гуль - Я унес Россию. Апология русской эмиграции краткое содержание
Я унес Россию. Апология русской эмиграции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наконец подается кофе, арманьяк, печенье, фрукты, сыр и на блюдах табак с папиросной бумагой для заверток. Этим должен заканчиваться каждый праздничный обед на молотьбе. Это все обязательно. И после этого наполнение желудков окончено.
На поля, на луга, виноградники ниспадает тихая оливковая сумеречность. Вся помочь, покачиваясь, расходится по домам, чтоб назавтра так же собраться за столами у соседа. Я чувствую, что устал от работы, вина, мяса, арманьяка, кофе. У сарая сложены дышащие хлебным теплом мешки с пшеницей: годовой пот и труд. Вокруг дома пахнет хлебом и пролитым вином. На шоссе крякает спешащий автомобиль. В небе вызвездились первые звезды, они словно нетверды, вот-вот звездопадом просыпятся вниз. Звеня стаканами, тарелками, жена и мать убирают со столов, похожих на поле после побоища. И мягко из-за холма, как громадный искусственный лимон, выходит луна и заливает все своим бледным светом, в котором резко заострился выросший после молотьбы омет соломы.
Вино лишает меня чувства действительности, мне все кажется, что это и не молотьба, и не я, но какое-то театральное представление, освещенное громадной электрической луной-лампой.
Смерть матери
Выросшие до крыши розовые, белые, желтые мальвы обступили наш дом, увивший стену виноград цвел, испуская сладкий запах, будто кто-то пролил у крыльца душистое вино. В переднем углу комнаты, под темным образом Христа мать лежала в гробу маленькая, пожелтевшая, с странно молодым лицом.
Сквозь окно виднелась качающаяся в ветре айва, желтеющая пшеница и высокое ровное небо. Перед смертью сознание матери не выдерживало напирающего хаоса пережитого. В жизнь на бедной гасконской ферме врывалось далекое, русское, война, революция. И с широко раскрытыми глазами мать произносила жуткую путаницу. Но потом, словно борясь с ринувшимся в сознание хаосом, она с отчаянием выговаривала: «Господи, да как же все это было? Ведь я же путаю…» Я помогал ей выправить мысль. Закрывшись желтоватой, когда-то необычайно красивой рукой, она лежала детская. Взглядом страдающих глаз глядела на нас, своих детей, словно прося простить за причиняемое болезнью страдание. А когда ей становилось легче, пыталась расспрашивать о хозяйстве, сенокосе, о саде; сказала: «Сливы в этом году много, если, Бог даст, встану, наварю вам варенья». Но вскоре с взглядом напряженно-ищущим, испуганно-безумным, стараясь приподняться на слабых руках, она тревожно произнесла: «А знаешь, в этом году большевики, пожалуй, придут… в прошлом не пришли, а в этом придут…». Я понял, что это вспыхнувшая жуть ожидания большевиков в Киеве, двадцать лет тому назад. Внезапно замолчав, мать откинулась на подушку и вскоре заснула. К ночи она страдающе проговорила: «Как это страшно, что человек так близок к безумью… один шаг, и начинается безумье…» Я успокаивал ее.
Над домом теплое небо расписалось созвездиями, плыла ночь, ни ветра, ни собачьего лая, будто все к чему-то прислушивается, и вдруг от шороха и шепотов матери я вскочил, но я еще не понимал, что это пришла смерть, что сейчас начнется единственно страшное человеку: телесные страдания перед уходом с земли. Верующая, всю свою жизнь она не боялась смерти, но всегда болезненно страшилась возможности телесного уродства, и наступило именно это: мать лишилась души, речи, сознания.
Рассветало медленно и безжалостно. Сквозь окно качалась та же айва, пели те же птицы, желтели те же пшеничные склоны. Полупарализованной рукой мать показывала мне на ногу и на голову, объясняя этим, что понимает происшедшее с нею: от закупорки вены в ноге — закупорка в мозгу и полупаралич. Хлопоча у ее постели, я вспоминал, как двадцати пять лет назад, закаменев в своем горе, мать вот так же в Пензе хлопотала возле умирающего отца, и мне казалось, что времени нет, что это было вчера, и вот ее самое теперь уж не отнять, не вырвать, расставание настает, надо прощаться.
Мать пытается перекреститься на темный лик Христа, но рука не послушна. Я беру эту бессильную руку с пальцами, сжатыми крестным знамением, и помогаю поднести ко лбу, груди, плечам. И вдруг, глядя на меня, мать тихо заплакала. Это были те большие, запрокинутые в вечность мгновенья, что переживаются только, когда смерть подходит вплотную и своим током, веянием крыл обдает до дрожи. Мать пытается говорить, но все, что произносит, это уже не речь, а отчаянный поток человеческих звуков, и в нем различимо только «Господи… Боже мой…». Словно она молится Богу и, видя, что мы ее уже не можем понять, просит Бога, кричит к Нему, чтоб он помог ей досказать что-то самое главное, самое нужное, самое последнее, но у нее нет сил это выговорить.
Рассвело. За окном пели птицы. Остановив на мне потухающие глаза, мать неожиданно произнесла: «Умру». Это было последнее. Силы, уводящие ее из жизни, брали верх. Мы сидели в тишине, нам показалось, она, может быть, заснет, но, полуоткрыв глаза, она вдруг, с трудом приподняв еще не парализованную руку, сделал ею в направлении нас движение, словно прощалась с нами уже оттуда, с полпути, уходя навсегда.
Вздрагивая и стоная, она лежала в бессознании. Силы смерти уже несли ее все стремительней по страшному переходу из жизни в нежизнь. Вокруг — полевая тишина, трепет деревьев, долетают понукания пахарей. И нет для смерти окружения лучше, чем цветущая земля. В этой полевой певучей тишине и провожать и умирать легче, тут земля не страшна, с землей слипся, сжился.
Так же, как в отрочестве, в Пензе, когда умирал отец, в нашем доме стала жить смерть, и от ее присутствия лица всех стали иными, все заговорили шепотом, заходили тише, жизнь пошла оторванно от быта, смерть словно говорила: «Смотрите, как все это ни к чему и как все это просто, вот я пришла и беру, и очень скоро возьму вас всех».
Боролась со смертью только земля, не позволяя себя забыть. С запада набежали фиолетовые дождевые тучи, сильно понес влажный ветер: будет дождь, надо свозить сено; корова пришла в охоту, ее надо вести к соседскому быку. И подчиняясь земле, мы работали и возвращались к лежавшей без сознания, умиравшей матери.
У матери закрыты глаза, в тишине она дышит все чаще. Мы стоим у ее постели, сквозь окно я вижу, как в ветвях деревьев прыгают и перекликаются маленькие оранжевогрудые птицы. Мать дышит, словно торопясь. Мать умирает, и в свои сорок лет я ощущаю, что остаюсь потерянным, словно соединявшая меня с миром пуповина будет сейчас перерезана. Вот мать глубоко переводит дыхание. И вдруг все стихло. Это останавливается сердце. Бившееся шестьдесят пять лет, оно биться кончает, еще мгновенье, и оно остановится. Остановилось? Нет еще. В тишину с пашни ворвался чей-то непонятный далекий крик. И еще один глубокий, всей грудью, вздох матери. И снова захлебывающееся, учащенное дыхание, и опять одинокий длительный вздох будто сладко просыпающегося человека. За ним из этого мира — в иной мир страшная, влекущая тишина. Вот — запоздалый, всеотпускающий последний вздох, и наступает совершенная тишина. В этом мире уже нет ее дыхания… Мать умерла…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: