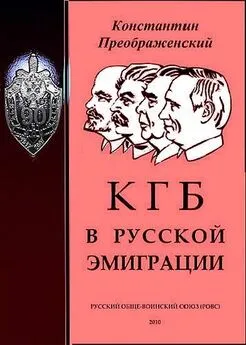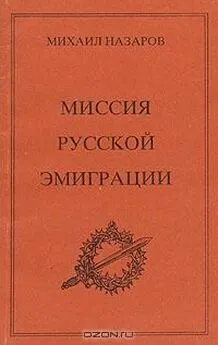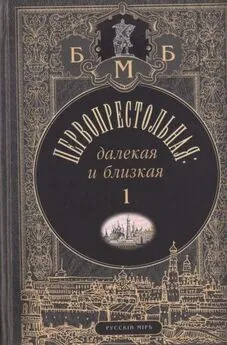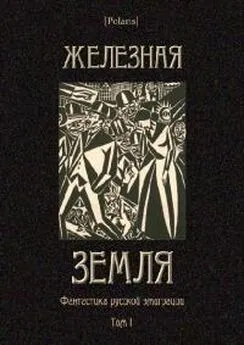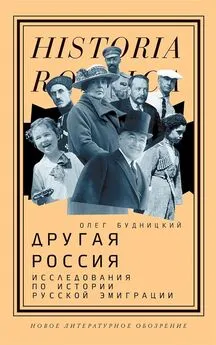Роман Гуль - Я унес Россию. Апология русской эмиграции
- Название:Я унес Россию. Апология русской эмиграции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Гуль - Я унес Россию. Апология русской эмиграции краткое содержание
Я унес Россию. Апология русской эмиграции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Катастрофа пришла со второй коровой — с низкой, неприятного вида старой голландкой Флорет. У нее было сверхъестественно большое вымя и громадные белесые соски, покрытые мелкими бородавками. Эти бородавки-то и оказались главным препятствием. Хотя не только в них было дело. Надо сказать, что у коров столько характеров, сколько на свете коров. Я узнал коров милых и добрых, злых и неприятных, ласковых и бодливых, прожорливых и скромных в еде, озорных и застенчивых. Коровы — как люди, у каждой свои особенности характера и «психологического склада». И вот, когда я после трех лет доения стал уже большим спецом в коровье-молочных делах, я увидел, что разница характеров обусловлена, главным образом, людским отношением к коровам. Грубое человеческое отношение — дает злых и грубых животных. Умное и человеческое или, так сказать, отношение «на равной ноге» воспитывает мягкость характера у животных. Так что и тут человек зачастую многое портит сам.
Флорет отказалась давать молоко новому неопытному доильщику. Как только я сдавливал ее бородавки, она стремительно и чрезвычайно ловко ударяла ногой по доёнке, пока, наконец, не опрокинула ее на пол.
Еще хуже было с той самой черной коровой в белых чулках, Нуаро, четырехлетней красавицей-брюнеткой, о которой предупреждал — вероятно, с удовольствием предвкушая баталию — Франческо. Она сразу же, безо всяких предупреждений, как только садились ее доить, била то одной, то другой ногой. Пришлось-таки применить серьезные меры воздействия. Мы с братом связали ей обе задние ноги вожжами, и при каждой ее попытке лягнуть брат жестоко стегал Нуаро по бокам длинной лозой. Вот только так, с физическим воздействием, и удалось выдоить Нуаро.
В молочной — небольшой комнате рядом с нашим жилищем жена разливала молоко крестьянкам и детям, пришедшим за молоком. А молоко разливать тоже непросто. Казалось бы, несложное занятие, но надо уметь.
Однако все трудности дойки были только в первые дни. Скоро я узнал, почему на юге Франции доят мужчины и только мужчины: дойка — физически трудное дело, нужны сильные руки и крепкие пальцы. Женщинам это, конечно, не под силу. Так, моя жена, к своему большому горю, доить не могла. А вот жена брата, консерваторка-пианистка, оказалась хорошей доильщицей, но одной рукой.
Вскоре дело пошло так, что и клиентов стали пускать в коровник, под каким-то благовидным предлогом перенеся время раздачи молока.
«Млекаж! Млекаж!»
По утрам я всегда еду в Вианн душевно радостный. Во-первых, потому, что это — утро, а всякое утро радостно-неповторимо. Я вдыхаю полной грудью резкий, свежий, ароматный воздух. И чувствую всем телом, что я живу. И вовсе не потому, что cogito ergo sum. Я вовсе «не мыслю». Я ДЫШУ — значит, и существую, ощущая необычайное чудо удивления всему миру с его несказанной тайной («как не любить весь этот мир — невероятный твой подарок!»). Пока я еду — откуда-то с лугов пахнёт скошенной травой, из лесу — лесной прелью. Бидоны в прицепке позвякивают от неровности асфальтовой (давно не чиненной) дороги.
Это голодный военный 1940 год Франции. Я — молочник и разливаю молоко в Вианне «по карточкам». Во Франции все теперь стало «по карточкам». Мой велосипед совершенно необычайного вида. Это результат войны. На шинах надеты куски старых шин (ими залатаны), а внутренние шины берегутся как зеница ока. В продаже — ни шин, ни велосипедов, ничего, немцы все угнали куда-то на север. Велосипеды стали единственным способом передвижения. Автомобилей на дорогах нет. Изредка протрясется какой-нибудь захудалый автомобильчик пятидесятилетней давности (бензин дается по самым скупым карточкам).
В реморке у меня три больших бидона молока. А молоко по этим временам — неоценимая драгоценность. Все в Вианне меня знают, все любезны, иногда даже льстивы, потому что я сейчас — большой чародей, могу дать кому-нибудь побольше, чем по карточкам. Причем наше молоко — первоклассное, не снятое, не разбавленное водой, что сейчас часто делают. Как Иван Никитич ни настаивал разбавлять молоко водой — мы (русские интеллигенты) наотрез отказались. — «Ну, тогда ничего и не заработаем, будем гнать впустую!» Но отказались все и этим даже зарекомендовали себя как поставщики самого хорошего, цельного молока.
В Вианне я сначала еду в чешский поселок, рядом со стекольной фабрикой. И только мне стоит со звоном бидонов спуститься с дороги в поселок, как со всех сторон с криками: «Млекаж! Млекаж!» — ко мне вихрем несутся чешские детишки, светловолосые, круглолицые, светлоглазые. Их тут много, сейчас они получат молоко, которое некоторым я даю с «прибавкой». Поэтому меня так радостно и встречают. А я к этим славянским ребятишкам почему-то особенно расположен. Вероятно, это подсознательное славянско-расовое чувство («гей, славяне!»), хотя все дети всегда были моей «слабостью» (любил и люблю детей за их натуральность, естественность). Матери моему приезду радуются не меньше детей, когда я разливаю им в кастрюли, в кувшины, в бутыли.
После чехов еду назад в Вианн, и начинается хождение из дома в дом: кому 1/2, кому 1/4, а кому и целый литр. Особую жалость у меня вызывала одна еврейская семья беженцев откуда-то с севера: муж, жена, двое маленьких детей. Они были тут чужеродны, с французами не сходились. Детям я старался дать чуть-чуть (как мог!) да побольше. По виду это были интеллигенты. С мужем разговаривать не пришлось, разговаривал с женой. И в один день, вся в слезах, она сказала: «На мужа не давайте… его арестовали жандармы и увезли…» — «Куда?» — «Не знаю, наверное, в Ажен…» — и заплакала.
Дня через два я напрасно стучался в их квартиру. Вышла соседка-француженка, махнула рукой и сказала: «Всех увезли… жандармы… в Ажен…» Детей и женщин увозили в Ажен, передавая немцам, а те увозили (думаю) в Германию на уничтожение… С мужчинами поступали иначе.
В резистантской книжке «Crimes de Guerre en Agenais» Жак Бриссо рассказывает, как действовало гестапо в Ажене. Здесь особым садизмом прославился некто Hanak (по прозвищу «Le Balafré»). Уроженец Франции от отца-немца и матери-польки, он о французах говорил: «Les Français me dégoûtent. Je prend plaisir àfaire souffrir cette sale race», И убивал людей бесчисленно и бесчеловечно особой «плеткой» с зашитым в нее металлом. Вот как он убил еврея Леона Когена. Заставил голого лечь на кровать животом вниз и начал стегать плеткой. Коген сначала кричал, потом стонал, хрипел, потом перестал: он был мертв. Вся кровать была в крови.
После победы союзников Ханак попал-таки в руки французов (выдали из Гамбурга), и его расстреляли. По-моему, это было неумной милостью и несправедливостью к тем, кого он убил. По-моему, перед расстрелом Ханака надо было хоть одну неделю подвергать телесному наказанию его же «плетью».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: