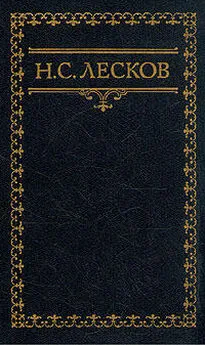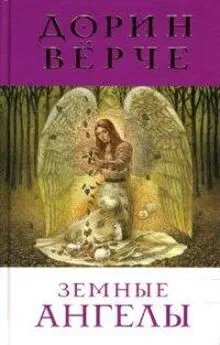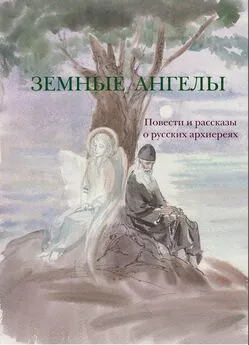Николай Лесков - Земные ангелы [антология]
- Название:Земные ангелы [антология]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Православное издательство “Сатисъˮ ООО
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7373-1186-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Лесков - Земные ангелы [антология] краткое содержание
Земные ангелы [антология] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он был такой же, как когда-то – этот белый, тихий монастырек!..
Преосвященный остановился в покоях игуменьи, и до благовеста к обедне проговорил с хозяйкой, еще не старой женщиной – с умным тонким лицом. Игуменья рассказывала, что в простом народе уменьшается религиозность, и это ее печалило, но никакого средства против неверия она не предлагала. И ему казалось, что она хочет услышать именно от него, как бороться с неверием, а он сам не знал. В городе он сослался бы на консисторию; но здесь этого нельзя было сделать, потому что нелепость и фальшь этого была бы очевидна…
Обедня началась в девять часов и кончилась в двенадцать. Служили долго, благолепно, по-архиерейски. Клирошанки выучили к этому дню особые напевы – хитрые, с переливами, словно танцующие, а преосвященному так хотелось бы, чтобы они пели просто, как поют всегда, тихо и грустно… После обедни нужно было ехать на другую сторону реки, в монастырский лес: благословлять сенокос. Переправлялись на больших лодках, убранных коврами. Было солнечно, неподвижная река так сильно отражала лучи, что казалась расплавленным металлом, и на нее больно было смотреть… Иконы и хоругви переливались как алмазы, пахло кадильным дымком, вокруг чувствовалось лето – молодое, полное силы, и, казалось, что весь этот плывущий крестный ход – праздник солнца, силы, благовонной чистой земли… Причалив к берегу, пошли в лес – с тихими священными песнями, выбрались на широкий луг, зеленевший высокою, сочною травою, и остановились. Толпа разместилась по окраинам, у леса, а в середине клирошанки набросали кучу цветов – и с песнями и величаниями – посадили на нее игуменью… И она сидела, как царица на троне, а кругом стояли монахини и клирошанки и пели грустные, тихие песни… Потом игуменья сошла с цветочного трона и стала рядом с архиереем, а монашки, попросив благословения, пошли длинными рядами по лугу, подрезая траву серебряными косами… Получилась картина чрезвычайно яркая и пестрая: толпы народа, хоругви и иконы, священнослужители, тени от деревьев, зелень и солнце – все смешалось в один свежий, веселый, праздничный аккорд.
Когда вернулись с сенокоса, сели тотчас за стол. Было много гостей, приехавших из города, шумно разговаривали, в раскрытые окна пахло резедой. Преосвященный сидел посредине стола и – под шумок – воскрешал про себя тронувший его своею простотою и поэзией сенокосный обычай – блестящую, как металл, воду, луг, чистые, грустные монашеские песни… Отчего-то это обычай сильно напомнил детство, и это было приятно и грустно… Кто-то из гостей начал было произносить речь – в честь архиерея, вероятно, по просьбе монастыря. Очнувшись от своих мыслей, владыка вдруг увидел обращенные на себя глаза всех. Почти напротив стоял какой-то старик, кажется, тот самый, который приветствовал его у церкви при приезде в город, и говорил:
– Вы – наша гордость… И долго-долго после нас наши внуки будут говорить с гордостью: преосвященный Иоанн – наш уроженец!..
Это было так грубо, нелепо, что преосвященному показалось, будто кто-то ударил его по лицу. С глазами, в которых были слезы и обида, он приподнялся со стула и замахал руками:
– Не надо!.. Не надо!..
Наверно, выражение лица было у него особенное, потому что старичок помялся немного и сел – с видом полного недоумения… Гости уставились в тарелки, словно ничего не видели… Только преосвященный все махал руками и говорил:
– Не надо! Не надо!
И гости поняли, что преосвященный уж очень стар и начал заговариваться. Но вида никто не подал, и обед благополучно дошел до конца…
Жаркий день накалялся все более и более, и ехать из монастыря по такой жаре было невозможно. Преосвященный отдохнул после обеда, напился чаю и вечером отправился один пешком в городок – через горы. Он поднялся на гору и пошел по краю ее – по той самой линии, где степь вдруг спускалась к реке… Солнце только что село. Тонкая, прозрачная тень легла на землю, и окутанные ею – лес, река, горы казались нежнее и задумчивее. Где-то в лесу терялась песня, и слышался звон – такой тихий и далекий, что нельзя было понять – звонили ли действительно, или это только казалось… Преосвященный присел на камень и начал смотреть на реку. Отсюда она была видна ему далеко – вверх и вниз… Было тихо, удивительно тихо, вода стояла прозрачная, нежная, темноватая, и по ней плавали легкие розоватые облака… На противоположной стороне нависли деревья так низко, что, казалось, плыли по воде… Кто-то зажег на другом берегу костер, и он горел – далеко, красиво, тихо и манил… Потом там же раздалась музыка, наверное – флейта, – и над водой некоторое время повисла маленькая, веселая мелодия… Показались лодки с горожанами – черные, медленные, маленькие, как ползущие жуки. Слышно было, как скрипели в уключинах весла, плескала вода, и узкий струистый след оставался позади… И над всем этим вечерним простором покоилось белое низкое небо – простое, печальное, вечернее…
Преосвященный смотрел, и тихая река, небо, деревья, костер за рекой, музыка – заволакивались, теряли свои очертания, сливались в одно. Какая-то особенная, прекрасная, чистая, грустная жизнь была там, и она вторгалась в него, и под нею – как странно широк сделался вдруг мир! Он почувствовал, радостно почувствовал – вечернюю реку, небо, костер за репкой, музыку, вон те далекие берега, которые выпятились в реку – около белого монастыря. И детство, старое милое детство вдруг стало близко, как вчерашний день, и жена подошла – молодая, грустная, прекрасная, и нахлынуло вдруг счастье – светлое, тихое, как соловьиное пение в далеком березовом лесу… И засмеялся он, привстал с камня и захотел закричать, зашуметь, запеть – так громко, чтобы слышали все, запеть о счастье, о молодости, о прекрасной, чистой жизни… Но он махал руками, как утром за обеденным столом, а слов не было, слов не было, чтобы выразить счастье… Вдруг хлынули слезы – обильные, как дождь, – слезы счастья, как-то закружилась голова, он начал опускаться на камни, но не успел осесть и повалился без чувств… Уже ночью нашли его здесь и отвезли домой. Послали за докторами. Пришло их два, но они не могли ничего поделать: архиерей оставался в бессознательном состоянии…
Глава пятая
Через два дня болезнь архиерея определилась: воспаление мозговой оболочки. Он лежал в маленькой комнатке, выходившей окнами в старый сад. По лицу бродили зеленые тени, иногда солнышко, как переливающееся золото, блестело сквозь листву, по ночам пели запоздавшие соловьи, но он ничего не видел и не слышал… Где-то далеко от маленькой комнатки была его больная, страдающая мысль… Он вдруг увидел то, о чем долго думал когда-то, в молодости, когда решил сделаться священником. Он увидел Христа, Который пришел к нему, сел около и смотрел – молча, тихо, грустно – смотрел на Своего архиерея. И архиерею хотелось упасть перед Ним на колени и сказать: «Прости, прости!» – Но откуда-то поднималось светлое радостное чувство от того, что он видит Христа, и ему хотелось смеяться. Потом Христос исчез, и перед преосвященным открылась дикая, просторная пустыня, по которой шел народ и шумел, как пчелы в улье. Он всмотрелся, и впереди увидел опять Христа – босого, утомленного, с печалью в глазах. Он вел народ куда-то далеко-далеко… И архиерей опять засмеялся потому, что он снова увидел Христа… Но вдруг толпа смешалась. Христа не стало, и вот уж он, старый архиерей, впереди всех – тоже босой, утомленный, печальный. Он ведет народ на какую-то высокую гору, которая светится вдали, как звезда… Вот взошел он, а народ стал по склонам, прислушавшись, и поднял он вверх руки – к небу, к Христу, с молитвой за народ. И вдруг прямо впереди – на востоке – показалось солнце и брызнуло лучами, как золотою пылью, по пустыне, и увидел архиерей, что он стоит на самой вершине горы, и видны ему отсюда далеко-далеко поля, луга, селения, а около чутко насторожился народ – жадный, как сухое бездождное поле, и он, архиерей, выше всех, самый святой человек, как лучший, самый чистый, самый святой человек, за народ, за равнины, блестевшие внизу, за солнце… И это было так хорошо, словно его, старого архиерея, уже нарисовали на иконе чтут, и целуют его, и всегда помнят о нем, и он опять счастливо рассмеялся…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Николай Лесков - Земные ангелы [антология]](/books/1065015/nikolaj-leskov-zemnye-angely-antologiya.webp)