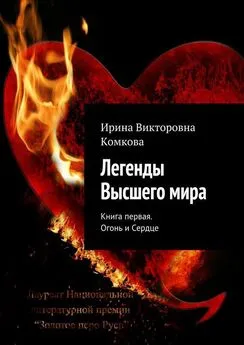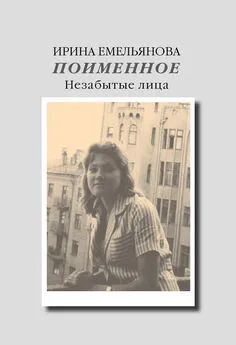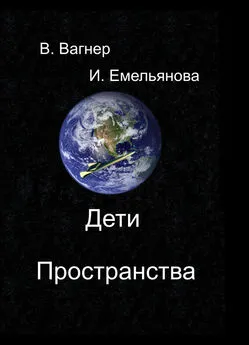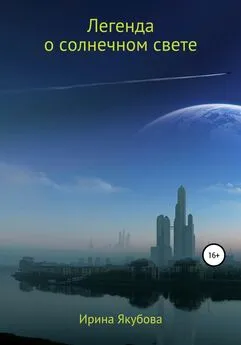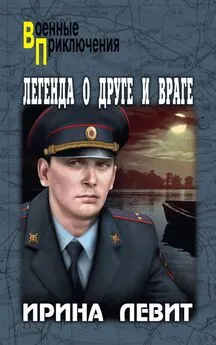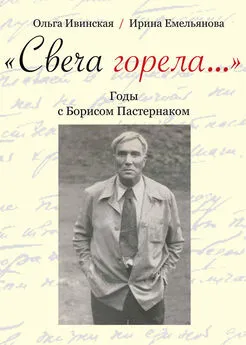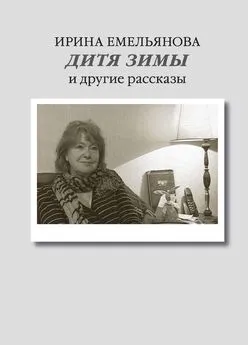Ирина Емельянова - Легенды Потаповского переулка
- Название:Легенды Потаповского переулка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7195-0067-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Емельянова - Легенды Потаповского переулка краткое содержание
Легенды Потаповского переулка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И они разобрались сами.
54, 55, 56-й годы… Время крепнущих надежд, волшебных возвращений, встреч после неслыханных разлук… Наша квартирка превратилась в пересыльный пункт, он же клуб интересных встреч. Кто только у нас не перебывал на полпути из Мордовии на Украину, из Тайшета в Прибалтику, из Казахстана в Ленинград, с Колымы на юг… Имена многих я забыла, ибо это был поток, иногда раздражавший бабушку, — теснота, мало денег, детям надо в школу, а тут — поздние звонки, разговоры заполночь, вечно телогрейки и вещмешки в коридоре, всегда накрытый стол, всегда занятая ванная, — кто-то «очередной» моется… Помню Н. И. Гогенторн — ученицу Андрея Белого, антропософку; прелестную Надежду Августиновну Адольф — детскую писательницу и поэтессу (до сих пор люблю ее очень нравившиеся мне лагерные стихи); К. Богатырева, К. Зданевича и, конечно же, В. Шаламова, возникшего на пороге Потаповского в брезентовом дождевике с рюкзаком за плечами, и его необыкновенное опаленное, сожженное навеки колымскими ветрами лицо, его почти обугленные руки. Весь он — как живая память о том, чего человеку лучше не знать. И когда заговорили о проекте памятника замученным в лагерях (якобы предложил Хрущев), я увидела таким памятником именно Шаламова — того Шаламова, каким возник он на пороге нашей квартиры первый раз. А если этому страданию нужен был и женский образ, он тоже имел воплощение — Аля Эфрон, красивая, статная, с навсегда закинутой головой — назад, гордо! — и такая же обветренная, обугленная, со своим «вещмешком», также появившаяся в нашей квартирке. Ее прислал Б. Л.
Но среди этих гордых и умудренных сколько было безвинных легкомысленных Людочек и Ниночек (мама всегда была широка в знакомствах), разок протанцевавших с американским летчиком, разболтавших соседке анекдот либо восхитившихся западным нижним бельем! Какие уж тут подруги немецких офицеров или переводчицы в гестапо! Те тянули свои срока в ожидании комиссий, а эти страдалицы с облупившимися носиками, помывшись в нашей ванной, бежали в соседнюю парикмахерскую, возвращались с пергидрольными локонами, накупали московских конфет для заждавшихся где-нибудь в Мелитополе детишек или старушек-матерей. И всех мы ублажали, снаряжали, провожали.
В эти годы пришло к Б. Л. ощущение полноты бытия, единственности и неслучайности проживаемого времени («Я доволен своей жизнью!» — часто говорил он), драгоценности и значительности каждой минуты, которыми был окрашен его закат. И «оттепель» сыграла тут свою роль — возвращались страдальцы, за которых беспрерывно болело сердце, кошмар кончался, душа могла наконец отдохнуть. Вовсю писался роман, во второй части которого воздвигался его, пастернаковский, памятник страшному времени. При всем том, что он был счастлив тогда, светился радостью, сообщая, что, вот, вернулась Аля, Гладков, освобождают Спасского и т. п., «оттепель» ничуть его не обманула. «Они» (так называл он советских руководителей и шире — систему) были отторгнуты навеки, никаких попыток «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» он уже не мыслил. Даже в это время Б. Л. не верил в возможность выхода романа на родине, без особого энтузиазма относился к готовящейся книге стихов («Пусть поскорее переиздадут переводы, это реальнее!»). Попытки создать якобы «неподцензурные» издания (например, альманах «Москва») не поддерживал и предпочитал им откровенно казенные издательства. Пожалуй, если его отношение к Сталину было окрашено каким-то интересом и даже уважением — монстр, но значителен, загадочен, молчалив, невидим, — то Хрущев своей развязностью, бесконечными речами, рассуждениями о живописи и литературе, шутовством — был для него неприемлем. Он не увидел, подобно Солженицыну, в лысом нашем президенте русского царя Никитушку-самодура и остался глух к его известной живописности и своеобразной одаренности. Б. Л. точно выразил это свое отношение к «оттепели» в стихах:
Культ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.
И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.
И культ злоречья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого свести.
Отчужденно относился он и ко всяким либеральным начинаниям, попыткам сгруппировать «честных» советских литераторов, всяким диспутам, псевдодискуссиям.
Тут я немного нарушу хронологию повествования и забегу вперед, в 1956 год, когда уже прошел XX съезд КПСС и «ожидание грядущих перемен, составляющее единственное историческое содержание» этого времени перестало быть просто ожиданием. Казалось, ему была дана даже реальная почва, и вот-вот замыслы, излагаемые как крамольные, обретут плоть и будут жить в открытую. Но Б. Л. оставался скептиком.
В 1956 году меня приняли в Литературный институт. Приняли по просьбе Б. Л., хотя, в общем-то, я не хуже многих могла и зарифмовать, и написать «очерк на тему». Но конкурс был слишком велик, и без письма Б. Л. я бы не прошла.
В знак благодарности я преподнесла нашему директору В. Озерову переплетенный экземпляр (машинка) только что законченной Б. Л. автобиографии «Люди и положения» со словами, что, мол, скоро выйдет однотомник, а это предисловие Б. Л. просил передать вам… Озеров был польщен, его грубоватое и в то время еще довольно красивое лицо осветилось улыбкой… Надо сказать, что наш руководитель тоже не был чужд либеральных иллюзий, и у него зрели различные замыслы дискуссий (одна из них — известная «Дискуссия о поэзии» — послужила концом и провалом недолгой институтской «оттепели»), он хотел изменить систему семинаров (должны были быть объединенные семинары, на которые приглашались бы писатели «всех направлений»). Озеров показал мне список намеченных к приглашению: там, кажется, после Шолохова и Овечкина шел Пастернак. Я взяла список, взяла приглашение, сказала, что передам… Меня же приняли! Но я не очень-то представляла себе Б. Л. в нашем конференц-зале, среди портретов Горького и Ленина, под разными лозунгами с цитатами из Хрущева (впрочем, тогда самым популярным был китайский лозунг «Пусть расцветают все цветы» — он украшал и конференц-зал, и стенгазету). Да и как вообще мог относиться Б. Л. к такому заведению, как наш инкубатор для советских писателей? Помню один разговор о Высших литературных курсах (на которых обучалось и немало его поклонников, особенно из Грузии). Б. Л. передавал нам рассказ одного из слушателей о диалоге между студентом и преподавателем на лекции: «А почему же Пастернак в те годы уцелел?» «На развод оставили!» — ответил лектор, и аудитория загоготала. Говоря об этом, Б. Л. слова «На развод оставили» произнес с такой несвойственной ему злостью, что я поняла, как глубоки раны от травли, хотя он всегда так доброжелателен, так умудренно незлобив, настолько «выше» этого. Мог ли он желать выступать в подобных стенах?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: