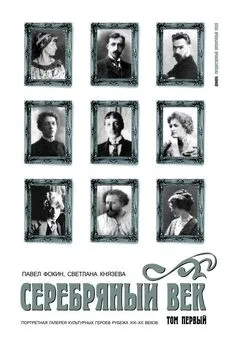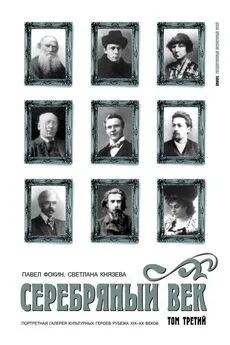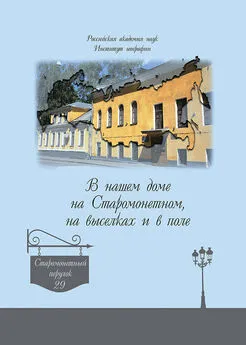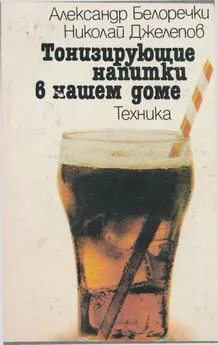Софья Богатырева - Серебряный век в нашем доме
- Название:Серебряный век в нашем доме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-115797-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Софья Богатырева - Серебряный век в нашем доме краткое содержание
Серебряный век в нашем доме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между тем публика в зале собралась трех сортов: знатоки и поклонники Серебряного века, знавшие наизусть Ходасевича и читавшие “Курсив”; так называемые “патриоты”, заранее с подозрением и антипатией созерцавшие заграничную гостью, которая самым своим местожительством внушала им недоверие и которую, по их мнению, следовало “поставить на место” – затем и явились; наконец, просто любопытное большинство, пришедшее взглянуть на заезжую диковинку и привлеченное именем Андрея Вознесенского, объявленным в афише: он вел вечер. Потому и вопросы резко отличались по тону, от простодушно-невинных вроде: “Как вам удается сохранять такую прекрасную форму?” и “Что вы кушаете на завтрак и на обед?”, на что Н.Н. чистосердечно признавалась, что подобно всем старым людям обожает суп, до ехидных, рассчитанных на провокацию. С “патриотами” националистического толка беседа шла на разных языках. Никто из них последней книги Нины Берберовой “Люди и ложи” не читал, но краем уха они слышали, что там “про масонов”: пребывание Н.Б. в Москве широко комментировалось по телевидению, названия ее сочинений были в те дни у всех на слуху. О том, кто такие масоны, в частности русские масоны, и какую роль довелось им сыграть в исторических катаклизмах минувшего века, они понятия не имели, зато знали словосочетание “жидомасоны”, где первая часть существенно перевешивала вторую: важно было, что “жидо”, а “масоны” воспринималось в качестве уточнения на манер эпитета. Короче: образ врага, губителя России. С таких позиций на Берберову посыпались вопросы: кто и когда состоял в масонах (читай: в губителях)? Неприличное “жидо“ то опускалось, то возникало, но националистической подоплеки вопросов и провокационного их характера Н.Н. не ощущала, принимала за чистую монету и отвечала с академической четкостью: называла даты, высказывала предположения и делилась сомнениями, в тех случаях, когда у нее не имелось точных сведений. Правда, на вопрос о том, явилась ли революция в России результатом жидомасонского заговора, она отозвалась веселым смехом – зал тоже откликнулся смехом, но не сказать, чтобы дружным. Вопросы и ответы, подобно параллельным прямым, не пересекались, ни обсуждения, ни беседы не возникало, но и задуманный скандал, к счастью, не разразился. Разговор какое-то время тянулся при обоюдном непонимании предмета обсуждения, ибо каждая сторона вкладывала в одни и те же слова различные понятия, пока не затух.
С читателями-почитателями тоже не все шло гладко. В одной из записок Нину Николаевну спросили: “Какие слова вы бы начертали на своем кресте?” Она то ли впрямь не поняла вопроса, то ли прикинулась, что не поняла, но ответила с оттенком неудовольствия: “Никакого креста я не предвижу, будет кремация, больше ничего”. Хотя мифологию своей судьбы Берберова искала (и находила) в библейских символах, она не упускала случая продемонстрировать свою внерелигиозность: религия была от нее отделена, как церковь от государства в советское время. На сей раз, думаю, не обошлось без лукавства: неужто она могла всерьез вообразить, будто ее спрашивают о надписи на ее собственном надгробии? Что за чушь! Конечно, аллегорический смысл элегантно заданного вопроса от Нины Николаевны не утаился, но отвечать – признаваться во всеуслышание перед туго набитым залом, что именно считает тяжким крестом, выпавшим на ее долю, – она не пожелала. Зачем? Те, кто читал ее автобиографию, могут сами найти верное слово. В “Курсиве” оно никак не выделено, но читается между строк: изгнание. Разлука с Россией, с близкими, в среде которых начиналась и должна была продолжаться ее жизнь, с пространством русского языка; отторжение от русской культуры, текущей литературы на русском языке. Нина Берберова мужественно несла свой крест, но распространяться на сей счет не считала нужным: скупо заметила, что жить в чужих странах – это был “крест русского писателя”. Во время продолжительной нашей встречи у нас дома, когда речь зашла о Валентине Ходасевич, племяннице поэта, и я предположила, что за рубежом ее творческая судьба могла бы сложиться более ярко: стала бы художником не только театральным, но живописцем, преимущественно портретистом, – портреты, с которых она начинала, в свое время пользовались немалым успехом и сулили ей признание в будущем.
– Бедствовала бы, – жестко отозвалась Н.Н. Замечание сопровождалось выразительным горестным вздохом. В понятие “бедствовала” было вложено много больше, чем признание нищеты.
В Петербург, тогдашний Ленинград, Н.Н. отправлялась воодушевленная. Мы с Юрием провожали ее на Ленинградском вокзале, и все ей там казалось симпатичным: и “Красная стрела”, и публика возле вагона – должно быть, виделась сквозь призму радостного ожидания, предстоящей встречи со своей молодостью. Когда через несколько дней мы ее на том вокзале встречали, выглядела она скорее обескураженной. Главную роль в рассказе о впечатлениях играли двери: ленинградские подъезды, по ее словам, наглухо заколоченные, и то, что жители (опережая время, она их называла “петербуржцами”, хотя до возвращения титула им предстояло ждать еще – ровно, почти день в день, – два года) принуждены пользоваться “черным ходом”, лестницей, служившей некогда для прислуги. Символом падения бывшей столицы виделись ей эти заколоченные подъезды.
Последняя моя встреча с Ниной Берберовой произошла в 1991 году в Принстоне, где она многие годы жила и преподавала. В Миддлбери-колледже, знаменитом лингвистическом центре в штате Вермонт, где каждое лето в школах – арабской, итальянской, китайской, немецкой, португальской, русской, французской, японской – юные и далеко не юные студенты со всего мира погружаются в языковую среду и культуру выбранной страны – мы с ней разминулись: она преподавала там летом 1989 года, у меня было приглашение прочесть курс лекций аспирантам на следующий год (“Вы у них в расписании”, – сказала мне Н.Н. при встрече), но в Америку в тот раз ОВИР меня не выпустил. Моя работа в этом замечательном колледже началась позднее, когда Н.Б. там уже не было. Дорога от Миддлбери до Нью-Йорка, а от Нью-Йорка до Принстона не такая долгая. Когда семестр окончился, я получила приглашение и отправилась к ней.
Маленький аккуратный домик стоял на лужайке, как крепкий гриб-боровик на полянке. Дверь по американской моде открывалась прямо в кухню-столовую, дорогу преграждал холодильник, от которого я старательно отводила глаза: мне рассказывали, что там на дверце прикреплена наша с Юрием фотография, сделанная у нас на Мансуровском все тем же ее учеником Диком. (Напрасно, кстати сказать, отводила: когда, забыв свои опасения, мельком взглянула, убедилась, что ничего подобного там уже нет.) Портреты на стенах гостиной, она же кабинет, меня опечалили: одному изображению Владислава Ходасевича сопутствовали пять фотографий Андрея Белого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: